Трансформация евразийского проекта на рубеже XX — XXI веков
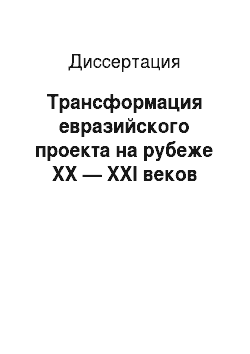
В трудах «Русская вещь», «Абсолютная Родина» происходит обращение Дугина к проблематике русского старообрядчества. Осмыслению старообрядческой проблематики как наиболее аутентичной версии русской православной традиции посвящены программные статьи «Сторож, сколько ночи?», «Кадровые», «Возвращение бегунов», «Такое сладкое «нет» «и т. д. Политологический аспект евразийских идей рассматривается… Читать ещё >
Содержание
- Глава I. Принципы и направления русского евразийства конца XIX — 80-х годов XX века
- 1. Становление и особенности русской философской евразийской традиции
- 2. Евразийство в контексте традиционалистской концепции конца XIX — 80-х годов XX века
- Глава II. Тенденции общественного сознания конца XX- начала XXI веков
- 1. Тенденции в общественном сознании и неоевразийство в контексте противостояния глобализма и антиглобализма
- 2. Неоевразийство: новизна концепции и социокультурного содержания
Трансформация евразийского проекта на рубеже XX — XXI веков (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность данной работы обусловлена интересом к базовым идеям классического евразийского проекта, возникшим в российском обществе на рубеже ХХ-ХХ1 столетий.
Данный интерес подтверждается включением евразийских идей в ряд идеологических концепций, имеющих потенциальную способность к трансформации в слагаемые зарождающейся государственной идеологии современного российского общества.
В первую очередь — это интеграция евразийских идей в базовый идеологический пакет новых патриотических течений, неотъемлемой частью которых является неоевразийство.
Также евразийские идеи актуализируются в рамках российских антиглобалистских течений, противостоящих процессу глобализации, которые влекут за собой значительное ослабление национальной идентификации российского общества.
Обращение к евразийству наблюдается в исканиях новых российских геополитических школ. Более того, существуют примеры практического применения модели геополитического развития страны, представленной в евразийском проекте в современных российских геополитических процессах, в частности тех, что связаны с укрупнением регионов.
Высокая толерантность к нетитульным конфессиям, характерная для евразийства, приобретает актуальность в контексте обострившихся межэтнических и межконфессиональных противоречий как идея, потенциально способная стать идейным субъектом межнациональной политики страны, что, в свою очередь, также актуализирует содержание исследования. Срединная, традиционалистская сущность евразийского проекта позволяет рассматривать его как актуальное противоядие от распространяющегося в стране национального экстремизма.
Вышеперечисленные аспекты актуальности работы подчеркиваются остротой общероссийской проблемы деидеологизации общества. Современное российское общество, столкнувшись с негативными последствиями деидеологизации, оказалось в духовном вакууме. Современные политические лидеры страны — в частности Д. Медведев и В. Путин — неоднократно подчеркивали, что социально-экономическое развитие страны не возможно в полной мере без создания в стране системы духовных ценностей, морально-нравственных ориентиров, идеологической платформы, отвечающей современным устремлениям складывающегося в России общества нового типа.
В контексте обозначенной проблематики актуализируется традиционалистский ракурс рассмотрения евразийства в качестве безаналогового пакета евразийских традиций, поскольку в традиционализме заложен высокий идентификационный потенциал национальной принадлежности и конфессиональной духовности.
Не менее важен культурологический аспект в рассмотрении евразийских идей в рамках проекта «неоевразийство», поскольку последний активно развивается в различных социокультурных форматах, становясь культурологическим феноменом. И здесь актуальность исследования акцентируется тем, что в культурологическом контексте неоевразийство еще практически не рассматривалось в феноменологическом ракурсе. В данном аспекте евразийские идеи, включенные в неоевразийство, приобретают интерес как феномен такого актуального современного течения, как постмодернизм.
Рассмотрение неоевразийства как субъекта виртуального пространства актуально в связи с тем, что Интернет является сегодня наиболее динамично развивающимся феноменом социокультурной жизни мирового сообщества.
Анализ евразийских идей в рамках «неоевразийства» актуален еще и вследствие того, что проект, находясь в стадии становления, является малоизученной областью философской мысли и представляет собой своеобразную terra incognita философии. Научная проблема исследования представляет собой противоречие между бытованием евразийских идей в XX веке и отсутствием научного контекста их философского осмысления.
Степень изученности проблемы. Непосредственно сам евразийский философский проект разрабатывался рядом отечественных ученых, среди которых прежде всего необходимо отметить Н. Трубецкого, Л. Карсавина, П. Савицкого и Н. Алексеева. В трудах Н. Трубецкого и Л. Карсавина в большей мере велась концептуальная разработка понятия «истинная идеология». Геополитика евразийства разрабатывалась П. Савицким. Весь комплекс государственно-правовых аспектов евразийского проекта мы находим у Н. Алексеева. Проблемы идеологической составляющей евразийского философского проекта раскрывают Г. Флоровский, П. Сувчинский, Г. Вернадский и М. Шахматов.
Обращение к евразийским идеям мы находим задолго до возникновения евразийского течения. Н. Карамзин в начале XIX века выдвинул идею о многосубъектности российской истории и роли монголо-татар в формировании Московского государства. Идеи о влиянии восточных культур на культуру России прослеживаются в работах востоковедов Н. Бичурина и В. Бар-тольда. Евразийский след мы видим в работах В. Ключевского и С. Соловьева. Оба выделяли роль природной среды в формировании российской истории.
Евразийские идеи рассыпаны в гидрологической теории развития цивилизации Л. Мечникова, этнографических концепциях А. Щапова и М. Лю-бавского. Определение же России как «срединного царства» давали В. Ла-манский и Д. Менделеев.
Впервые идеи русской духовной аутентичности рассматривались в трудах К. Леонтьева. Он же первым противопоставил русский и латинский миры, а также актуализировал идею русской близости к туранским народам. По мнению большинства исследователей, автором термина «симфоническая личность», широко используемого евразийцами, является Августин, разработка же понятия принадлежит А. Хомякову. Близкое евразийцам понимание «личности» мы находим в работах Н. Бердяева и М. Бахтина.
Особый пласт представляют собой работы исследователей, посвященные критике евразийства. Среди крупных мыслителей, находящихся в эмиграции, подвергают критике идеи евразийства Н. Бердяев, П. Милюков, П. Струве, В. Шульгин, И. Ильин, Д. Философов. Бердяев, характеризуя идеи евразийцев, называет их «манихейскими». Среди критиков оказался и Г. Флоровский — один из основоположников евразийства. Именно он ввел термин «евразийский соблазн».
Среди первых критиков евразийства в советской России выделяется Н. Иванов, который в своей статье «Критика марксизма русскими эмигрантами» вступил в резкую полемику с евразийцами.
Рассмотрение евразийских идей в контексте этнологии мы находим у Л. Гумилева. В своем основополагающем труде «Этногенез и Биосфера Земли» Гумилев продолжил традиции «географического» евразийства П. Савицкого, углубив их и расширив, придя к биолого-историческому детерминизму, утверждая, что сроки рождения и смерти этносов зависят не от культурно-исторических факторов, а от природных, естественных. Рассматривая евразийство в рамках этнологии и русского космизма, Л. Гумилев выдвигает две уникальные теории — этногенеза и пассионарности. Первая связана с влиянием географических ландшафтов на этнические особенности. Теории пассионарности — еще одна концепция личности, перекликающаяся с концепцией триединого процесса развития нации К. Леонтьева и выводами Н. Трубецкого о главенствующей роли симфонических личностей.
Поэтапная дифференциация классического евразийского проекта принадлежит С. Хоружему. Он выделяет первый этап в развитии течения с 1923 по 1925 годы и характеризует его как этап бурного становления. Для второго периода — с 1925 по 1930 годы, по мнению исследователя, ключевой является политизации проекта. С. Хоружий также выдвигает версии причин раскола евразийства. По его мнению, это симпатии левого крыла к большевистскому строю и апологетика марксизма. Эту же точку зрения мы встречаем у исследователей А. Соболева, И. Виленты, С. Игнатовой и В. Пащенко.
При рассмотрении евразийства в контексте традиционализма в работе анализировались исследования европейских ученых. В частности Э. Трельча, М. Вебера, К. Манхейма, А. де Роша, А. Дасноя. Взяв на основу типологию А. Дасноя, различавшего интегральный и идеологический традиционализм, в диссертации были сделаны выводы, касающиеся рассмотрения евразийского пакета традиций.
Идеи представителей старшего поколения «консервативной революции» О. Шпенглера, В. Зомбарта, О. Вайнингера, М. Хайдеггера, К.-Г. Юнга рассматривались в рамках анализа традиционализма в неоевразийском проекте А. Дугина. В ряде работ А. Дугин подчеркивает близость неоевразийской традиции к пониманию традиции в работах представителей поколения «консервативной революции», а также в трудах Р. Генона. В своем труде «Консервативная революция» А. Дугин включает евразийские идеи в геополитическое направление европейского консерватизма, а также сближает традиции евразийского круга с учением о Примордиальной традиции Рене Генона.
Также в контексте традиционалистского ракурса евразийских идей рассматривались исследования российских авторов, относящихся ко второй половине XX века. А именно труды И. Суханова, В. Плахова, Э. Маркаряна, К. Чистова, К. Думавы, А. Гомонова, Н. Кампраса, Н. Заковича. Г. Исаенко, А. Гринина, А. Ладыгиной, Ю. Давыдова, А. Лосева, А. Тахо-Годи, М. Мамар-дашвили. Отечественными учеными было предъявлено несколько фундаментальных концепций традиции, достаточно полно раскрывающих ее содержание. Разработка ими темы «традиции» помогла выйти за рамки «советской идентичности» и по-новому переосмыслить досоветский традиционный опыт, включающий в том числе и евразийство. В частности, исследователями была введена категория «патриотизм», не практиковавшаяся в советской идеологии, но чрезвычайно важная для понимания евразийства.
Именно с помощью трудов ряда данных ученых в 60−80-е годы начал контурно обозначаться тезис о том, что старые традиции могут быть и не реакционны, вылившийся в концепцию «абсолютной преемственности».
Рассматривая евразийство в рамках антиглобалистского круга идей, анализировались работы Н. Чуринова, И. Безухова, А. Янова, А. Цветкова, А. Дугина, В. Пащенко. Так, Н. Чуринов подчеркивал значение евразийства в идеологической культуре. В. Пащенко актуализировал социальные аспекты евразийского проекта, И. Безруков обозначил важность евразийства для актуально-политической практики современности. А. Янов писал о проблеме поиска русской национальной идеи в трудах русских философов, в том числе философов евразийского круга.
Отдельные аспекты проблемы «деидеологизации» и «реидеологизации», характерные для процесса глобализации, анализировались в трудах Д. Аптера, Р. Арона, Д. Белла, К. Гиртца, Джо Ла Паломбары.
При рассмотрении неоевразийского проекта как социального мифа за основу были взяты работы О. Карловой «Миф разумный» и «Культурный миф как «древо познания».
При анализе неоевразийства как феномена постмодернизма рассматривались труды Л. Вронской, А Бузгалина, А. Гениса, Е. Кикодзе, П. Козловского, М. Липовецкого, Л. Люкса. Данные авторы доказывают актуальность идей постмодерна в социокультурном пространстве российского общества на рубеже ХХ-ХХ1 веков, что послужило базовым выводом для рассмотрения диссертантом неоевразийства в рамках постмодерна.
В ходе анализа неоеврзийства как субъекта информационного общества рассматривались работы Р. Барта, М. Вербицкого, Ю. Кристевой, А. Дугина, У. Эко. Теории гипертекста и «утраты автора», выдвинутые философами-постмодернистами, стали ключевыми для выводов диссертанта в рамках данного контекста.
Проект «неоевразийство» в большинстве случаев рассматривается в работах таких исследователей, как А. Дугин, В. Пащенко, Мамлеев, Г. Дже-маль.
В работе А. Дугина «Философия традиционализма» автор обращается к различным видам «параллельной истории», вписывая в нее евразийские идеи. В трудах «Континент Россия», «Подсознание Евразии» идеи неоевразийства, сформулированные автором, представляют собой развитие классических концепций русского евразийства (Н. Трубецкой, П. Савицкий, Н. Алексеев, В. Ильин, Я. Бромберг, Э. Хаара-Даван и т. д.) в сочетании с геополитическими концепциями, тезисами Р. Генона о превосходстве цивилизаций Востока над современной цивилизацией Запада, социально-политической системой взглядов европейского течения «Консервативной Революции», применением евразийских принципов к конкретной советской и российской политической ситуации.
Развитие неоевразийских концепций отразилось во множестве статей и выступлений А. Дугина в течение всех 1990;х годов. Систематизированное изложение этих идей появилось в 1998;м в монографии «Наш путь», позже, в 2002 году, в евразийской антологии под редакцией А. Дугина «Основы Евразийства», в авторской брошюре «Евразийский путь как национальная идея» и в самом полном издании «Проект «Евразия» «(2004), где собраны все основные доктринальные и программные материалы и манифесты неоевразийства.
В книге «Основы Геополитики» А. Дугин излагает историю и методологию геополитики, а также акцентирует внимание на евразийских геополитических сценариях развития, ставя во главу пространственный фактор, а не временной. Философия пространства, вытекающая из генерализации геополитического подхода, основана на рассмотрении отношений между объектами с точки зрения их позиционирования в качественном пространстве. В более узком аспекте философия пространства А. Дугина проясняет логику отношений западной цивилизации (Европы и США) с Россией, подчеркивая уникальность и самоценность семантического поля, развившегося в России как самостоятельном цивилизационном пространстве.
В работе «Метафизика Благой Вести» А. Дугин сопоставляет идеи Р. Генона с богословской догматикой Православия. В результате этой работы были выделены те позиции философии традиционализма, которые несовместимы с принципами Православия, что привело к существенной коррекции автором некоторых моментов геноновской метафизики. В частности, была продемонстрирована неприемлемость метафизического принципа о «трансцендентном единстве традиций», расшифровка геноновской «христологии» и профетологии как крипто-исламской формулы, утрачивающей свое значение в православном контексте.
В трудах «Русская вещь», «Абсолютная Родина» происходит обращение Дугина к проблематике русского старообрядчества. Осмыслению старообрядческой проблематики как наиболее аутентичной версии русской православной традиции посвящены программные статьи «Сторож, сколько ночи?», «Кадровые», «Возвращение бегунов», «Такое сладкое «нет» «и т. д. Политологический аспект евразийских идей рассматривается в работах А. Дугина «Консервативная революция» и «Тамплиеры Пролетариата». Здесь исследователь анализирует недавние политические события, произошедшие в стране сквозь призму Ю. Эволы и Р. Генона. Данное направление политической рефлексии он называет «метафизикой национал-большевизма». Автор делает вывод о том, что в коммунизме и социализме имеются сакральные корни, и скрытая в них метафизика может быть интегрирована в общий контекст традиционализма, главным противником которого и наиболее чистым воплощением нигилизма оказывается либерал-капитализм. Этот фундаментальный вывод подтверждается логикой самих либеральных авторов — К. Поппера и Ф. фон Хайека, которые сближают между собой антибуржуазные идеи — как крайне правые (консерватизм, традиционализм), так и крайне левые (коммунизм). К сходному выводу, но, следуя совсем иными путями, придёт Г. Дже-маль, увидевший в крайне левой идеологии возможность революционного альянса радикальных исламистов-салафитов с мировым пролетариатом против глобалистской гегемонии Запада. На основании метафизического осмысления национал-большевизма Дугин закладывает основы политической философии, предлагающей особый взгляд на политическую историю России и на те процессы, которые протекают в настоящее время. Это направление метафизики национал-большевизма дополняет неоевразийскую теорию и вписывается в неоевразйискую структуру геополитического анализа.
В «Философии традиционализма» А. Дугин описывает традиционализм как самостоятельный язык, оперирующий с парадигмами, радикально отличными и часто прямо противоположными основным парадигмам языка Нового времени. Здесь же делается установка на приоритет «ситуации постмодерна» и её метафизическое осмысление.
Подводя итоги изученности проблемы, стоит подчеркнуть, что вследствие замалчивания евразийства на протяжении многих десятилетий идеи евразийцев до сих пор не имеют четкого категориального осмысления, оставаясь объектом полемики, столкновения разных мнений. Обилие привлеченных к рассмотрению научных трудов связано не со степенью изученности проблемы, а следствием многоконтекстного рассмотрения евразийства в данной работе.
Предметом исследования является трансформация евразийского проекта в философском, общественно-политическом и культурологическом контексте XXI века.
В качестве объекта исследования избираются евразийская традиционная философская версия, представленная в работах философов-евразийцев (Н. Трубецкой, П. Савицкий, Г. Вернадский, Л. Гумилев, Л. Карсавин, Г. Флоровский), неоевразийский проект, представленный в работах современного философа и публициста А. Дугина, деятельности ОПД «Евразия», социокультурных проектах рубежа ХХ-ХХ1 веков. А также европейский традиционализм, философские концепции постмодернизма, представленные в работах Ю. Кристевой, Г. Маркузе, Ж. Делеза, У. Эко, Ф. Фукуямы, Ж. Дер-ридыкультурологические концепции М. Бахтина, О. Шпенглера, Р. Бартаисследования природы мифа А. Лосева, О. Карловойкритика евразийства в работах Н. Бердяева.
Определение характеристик евразийского проекта и тенденций, позволяющих говорить о трансформации евразийской традиционной версии в новое течение — неоевразийство, является главной целью диссертации.
В связи с заявленной целью представляется необходимым в ходе исследования решить ряд следующих задач:
— исследовать становление и особенности евразийства;
— вычленить характерные особенности евразийской философской версии в рамках традиционалистской философской мысли;
— исследовать философский и культурологический аспекты модернизма и постмодернизма;
— вычленить характерные особенности евразийства в контексте модернизма и постмодернизма;
— рассмотреть неоевразийство в различных контекстах: государственное устройство, традиционализм, геополитика, религиоведение, конспирология, постмодернизм, культурология;
— выявить и системно представить особенности современной евразийской версии по отношению к традиционному евразийству.
Методы, использованные в диссертации, определяются целями и задачами исследования.
В целом методологическую основу исследования составляют сформулированные в работах ведущих философов классического периода и современности основополагающие принципы исследования с использованием нескольких методов и форм познания. Для разрешения поставленных задач потребовалось обращение к данным из разных областей знания: философии, философии культуры, культурологи, религиоведения, этнологии, социальной психологии, политологии, глобалистики, социальной и культурной антропологии. Для реализации системного подхода были привлечены следующие методы:
— описательные методы были использованы для адекватного представления бытования классического евразийского проекта, модернистского и постмодернистского социокультурного контекста;
— применение конкретно-исторического метода способствовало обеспечению подхода к евразийству как к явлению, существующему и развивающемуся в определённом культурном контексте;
— сравнительный метод позволил сопоставить взгляды евразийцев с позицией других философов XIX и XX веков, а именно славянофилов, традиционалистов, модернистов и постмодернистов;
— системно-структурный метод позволил рассмотреть идеи евразийства по отдельности, не нарушая при этом их внутреннего системного единства. Использование типологического анализа, позволяющего выявить своеобразие евразийства в границах традиционализма и отличие неоевразийства по отношению к классическому евразийскому проекту;
— текстолого-герменевтический позволил провести анализ источников, используемых в работе;
— при анализе философских источников применен также метод общей и специальной компаративистики, который был направлен на выявление различных интерпретаций и оценок творчества евразийцев и неоевразийцев. В ряде разделов изложение ведётся в форме сопоставления точек зрения, что помогает показать ход дискуссий по тем или иным вопросам;
— методы психологического анализа позволили выявить внутренние основы неоевразийства как феномена современного социокультурного пространства;
— метод «следов», введенный в историографию школой «Анналов» и представляющий собой возможность реконструкции недоступного в настоящий момент для целостного исследования по выбранной проблематике путем обращения к его проявлениям, позволил рассмотреть евразийство в контексте модерна и постмодерна;
— метод моделирования позволил выдвинуть ряд ключевых гипотез исследования.
Научная новизна данной работы заключается в следующем:
— дано рабочее определение понятия «евразийская философская традиция» в контексте заявленной проблематики. Данное определение стало итогом анализа и суммирования выводов ряда отечественных ученых, в частности С. Хоружего, И. Виленты, В. Пащенко и других авторов;
— определена синтетическая сущность идеологии классического евразийского проекта. В дальнейшем это определение позволило сделать вывод о том, что последующая трансформация проекта стала следствием изначальной синтетичности, позволяющей многотолкование, поливариантность в процессе развитиядано рабочее определение культурологического понятия «Восток», которое в евразийстве бытовало иначе, нежели в европейской традиционалистской ориентальной практике;
— в ходе рассмотрения евразийства в рамках традиционализма сделан вывод о наличии оригинального евразийского пакета традиций и дана его классификация, включающая перечень базовых евразийских традицийв аспекте рассмотрения оригинального евразийского пакета традиций сделан вывод о наличии замыкающейся структуры внутри него;
— при формировании классификации базовых традиций, входящих в оригинальный евразийский пакет традиций, впервые представлена сибирская геополитическая традиция евразийства, под которой понимается преемственность евразийцев к русской научной и философской мысли в понимании в отношении к геополитическому значению Сибири для России;
— в ходе рассмотрения евразийства в рамках течения «модернизм», впервые предложенном в данном исследовании, сделан вывод о заложенном в евразийстве пророчестве «рисков общества модерна" — при вычленении характерных особенностей евразийской философской мысли в рамках постмодерна сделан вывод о близости евразийства идеям мирового антиглобализма в значении части концептуального постсоветского патриотизмав аспекте рассмотрения евразийства в границах посмодренизма сделан вывод о доминантности виртуальных форм информационного общества в развитии ев-разйиства на современном этапе;
— при комплексном анализе евразийства и неоевразийства определены отличия последнего в трактовке базовых идей классического евразийского проекта (Евразия, православие, революция, традиция, личность, геополитика), что в дальнейшем позволило сделать вывод о сущностных трансформациях евразийских идей в рамках неоевразийского проекта;
— при рассмотрении неоевразийства в контексте идей, связанных с государственным устройством, сделан вывод о близости неоевразийства с идеями Ницше в понимании идеократии- - в ходе рассмотрения неоевразийства в контексте традиционализма сделан вывод о близости неоевразийства идеям Р. Генона в понимании наличия первоисточника традиций;
— при рассмотрении неоевразийства в контексте постмодернизма сделан вывод о наличии оригинального неоевразийского дискурсав ходе рассмотрения неоевразийства в контексте конспирологии сделан вывод о наличии в неоевразийстве черт синкретитечского заговорав контексте заявленной проблематики дано культурологическое определение понятия «революция», которое в неоевразийской практике представляет собой продукт пассионарного поля, лежащий за пределами добра и зла;
— в ходе рассмотрения неоевразийского проекта в культурологическом аспекте сделан вывод о наличии в нем черт, характерных для современной социокультурной ситуации, а именно наличие механизмов промоутирования, тиражирования, создания виртуальной личности, создания персонажности, виртуализации проекта;
— в контексте заявленной проблематики предлагается новое понятие «философский перформанс», необходимое для определения новых форм бытования философских проектов в современной социокультурной ситуацииитогом рассмотрения неоевразийства в культурологическом аспекте стал вывод о том, что неоевразийство на современном этапе является «философским перформансом».
Структура диссертации — «Трансформация евразийского проекта на рубеже ХХ-ХХ1 веков» — обусловлена целью и поставленными задачами.
В первой главе — «Принципы и направления русского евразийства конца XIX века — 80-х гг. XX века» — проводится анализ базовых идей евразийского проекта и анализ евразийского проекта в контексте европейского традициионализма.
В первом параграфе — «Становление и особенности русской философской евразийской традиции» — описывается история возникновения русской философской евразийской традиции, которая достаточно подробно изложена в трудах ряда исследователей.
Выводом первого параграфа является определение евразийства как первого русского идейного проекта, объединившиего весь комплекс духовных исканий русского социума: православную религию, естественные и гуманитарные науки, нравственность, философию и даже элементы мистицизма, чтобы выработать на их основе строго отрефлектированный понятийно-категориальный аппарат евразийской концепции. Ставится вопрос о том, что именно многосложность и вариативность евразийства стали предпосылкой для последующей деконструкции проекта.
Во втором параграфе — «Евразийство в контексте традиционалистской концепции конца XIX века — 80-х гг. XX века» — евразийство анализируется в широких границах европейского традиционализма. Культурное поле первой половины двадцатого столетия было обширным, и одним из наиболее ярких и многообещающих побегов этого пространства были идеи традиционализма, к которым относится и классический евразийский проект. Вычленяются особенности евразийского тредиционалистского варианта как предпосылки для дальнейшей трансформации философского проекта на рубеже XX — начала XXI веков.
Выводом второго параграфа первой главы является возможность рассмотрения евразийства как оригинального пакета собственных евразийских традиций, лишь условно вписанных в общую канву европейского традиционализма.
Во второй главе — «Тенденции в общественном сознании конца XX — начала XXI веков» — анализируется спектр основных особенностей современного общественного сознания, в частности модернизм и постмодернизм, проводится сравнительный анализ основных тенденций евразийства и модернизма, евразийства и постмодернизма, евразийства и неоевразийства.
В первом параграфе второй главы — «Тенденции в общественном сознании и неоевразийство в контексте противостояния глобализма и антиглобализма» — анализируется спектр основных особенностей современного общественного сознания, в частности модернизм и постмодернизм, проводится сравнительный анализ основных тенденций евразийства и модернизма, неоевразийства и постмодернизма. Делается вывод, что философы-евразийцы, не используя понятие «модерн», тем не менее, выстраивали модель идеального государста-континента как альтернативу модернизирующейся Европе. Модерн для евразийцев суть атлантическая цивилизация. В значении наиболее актуальной дуалистической конструкции, влияющей на общественное сознание, выделяется противостояние «глобализм-антиглобализм». Евразийство отличается от других антиглобалистских проектов не только отрицанием существующего процесса глобализации, но и предъявлением механизмов, способных стать новой моделью сосуществования разностей.
Затем в контексте заданной поляризации рассматривается евразийский проект на его современном этапе. Далее диссертант переходит к анализу механизмов возрождения евразийства в конце XX века посредством медийных ресурсов.
Во втором параграфе — «Неоевразийство А. Дугина: новизна концепции и социокультурного содержания» — вычленяются особенности неоевразийства в контексте постмодернизма, что позволяет сделать вывод о сущностных изменениях евразийского проекта рубежа веков, то есть появлении новой евразийской версии — неоеврайзиства. Далее прослеживается развитие неоевразийства в контексте масс-медиа и предлагается версия о том, что неоевразийство является примером нового проекта в жанре «философский перформанс», в котором использовались некоторые идеи евразийцев. Обращение же к евразийским идеям было связано с формированием в российском обществе конца XX века заказа на русскую национальную идею, а также возрождение православных традиций.
Вывод подтверждается исследованием новизны концепции и социокультурного содержания данного проекта.
В заключение диссертации подводятся итоги проведенного исследования. Рассматривается вопрос о преемственности евразийства и неоевразийства. Выявляются особенности неоевразийства как проекта «философский перформанс» в контексте социокультурных тенденций рубежа ХХ-ХХ1 веков.
Заключение
.
Научной проблемой, стоящей в центре данного исследования, явилось противоречие между бытованием евразийских идей в XX веке и отсутствием научного контекста их философского осмысления на рубеже ХХ-ХХ1 веков. В конце 80-х годов прошлого столетия, обратившись к трудам евразийцев, современный русский философ А. Дугин впервые ввел термин «неоевразийство». Первоначально он обозначал скорее новый интерес к идеям почти вековой давности, нежели новое течение. Однако в процессе погружения в евразийство на современном этапе неоевразийство начало обретать черты самостоятельного проекта. Осмысление данной трансформации и стало ключевым вопросом данного исследования.
Задача вскрыть механизмы трансформации потребовала детального анализа евразийского проекта. Сравнительно-исторический анализ трудов самих евразийцев, критиков проекта, ученых, исследовавших евразийство во второй половине XX века, привел к рабочему определению понятия «евразийская философская традиция» как синтеза философского учения и интеллектуального движения, основанного на совокупности философских идей и морально-нравственных установок. В результате сравнительно-исторического анализа в работе выявлены такие ключевые особенности евразийства, как многогранность и вариативность. Для философского описания этих особенностей введено рабочее понятие «синтетическая идеология» как круг философских идей и этических и морально-нравственных установок, отличительной чертой которых является, во-первых, направленность на формирование нового (иного) мировоззрения, во-вторых, единство теории и практики, в-третьих, понимание идеологии как духовной культуры, в-четвертых, многогранность направлений духовного поиска: философия, религия, идеология, геополитика, экономика, правоведение, государственное строительство и т. д.
Синтетическая природа евразийства до сих пор делает его «неудобным» для исследователей, пытающихся типологизировать творчество евразийцев в привычных ракурсах. Именно поэтому в данной работе евразийство рассматривается в рамках традиционалистского контура. Этот аспект выбран потому, что традиционализм является достаточно широким философским понятием, вмещающим широчайший спектр идей. Следует отметить, что несмотря на то, что традиция и традиционализм достаточно широко изучались и российскими, и зарубежными исследователями, в исследовательской практике нет примеров рассмотрения евразийства в рамках европейского традиционализма. В результате комплексного анализа в работе выявлены обособленность евразийства первой половины XX века в общем традиционалистском ряду и ее причины, которые заключаются в наличие собственного пакета евразийских традиций. Евразийцы, в отличие от представителей течения «консервативная революция» и традиционалиста Р. Генона, не считали, что в основе их учения лежит некая мировая, изначальная Истина. Более того, они попытались сформулировать собственную, оригинальную изначальную Истину, личную Примордиальную традицию. Понятие «Россия-Евразия» стало для евразийцев их изначальной, подлинной традицией.
Помимо евразийской изначальной Истины в работе дано описание всех составляющих евразийского оригинального пакета традиций: обоснование самобытности России-Евразии как особого культурного, исторического, географического мираотказ от европоцентризма и подчеркнутый интерес к культам Востока как наиболее близких духу Российской цивилизации, но все же не идентичных ейвключение в российскую цивилизацию, наряду со славянскими «туранских» народов как полноправного и активного элемента ее исторического становления и развитияидея особого исторического пути и миссии Россиипровозглашение Православия стержнем российской самобытности и основой ее возрожденияидеократическая концепция государства, включающая представление о государстве «социальной справедливости и правды», подчиненного высшей идее-правительнице, идеи-соборности и симфонической личностиизучение геополитических особенностей России как Евразии и введение новой категории — «месторазвитие».
Помимо этого, в данной работе выведена замыкающаяся структура евразийского пакета традиций, строящаяся по следующему принципу. Исходная точка — Россия-Евразия, рассматриваемая евразийцами как симфоническая личность. Далее следует Христианская культура, также понимаемая как симфоническая личность, осуществляющая себя в ряде низших личностейразличных культурах. В свою очередь культура реализует себя в народах. Народы же, в свою очередь, актуализируясь в культуре, христианской религии, движутся к высшей точке существования — соборности, самосовершенствуясь на благо России-Евразии. Соборность объединяет социальных личностей, помогая им устремиться к единому духовному центру — России-Евразии. Единый духовный центр, по убеждению евразийцев, — это Православная Церковь. Но она же тождественна России-Евразии, поскольку и идентификация России-Евразии, и ее актуализация происходит посредством православия, следованию православным традициям. Таким образом, снимается вопрос о декларативности православия и резонанса между евразийским пакетом традиций и православной традицией.
В аспекте избранной проблематики на основании сравнительно-исторического анализа, цивилизационного подхода и метода моделирования сделан вывод, что Евразийский Восток — это органичная интеграция европейских и азийских традиций в границах философского, социокультрного и геополитического феномена — Евразии. В то время как в понятие «Восток», характерное для западной традиции, — это, прежде всего, иной тип мироустройства, универсальная схема инаковости западной жизни.
В работе также сделан вывод о том, что помимо обращения к православным традициям и прочтения их в собственном, оригинальном контексте, евразийцы стали преемниками российской геополитической традиции. Вслед за многими русскими правителями, путешественниками, учеными, военнона-чальниками, государственниками, евразийцы признавали особую роль Сибири в развитии России. Более того, именно география и национально-культурные особенности Сибири стали для евразийцев одним из подтверждений верности их основополагающих представлений.
Во второй части работы диссертант отвечает на вопросы, связанные с реанимацией в конце восьмидесятых годов евразийских идей, а именно, является ли евразийский проект органичным продолжением идей философов-евразийцев первой половины XX столетия или мы имеем некий кардинально новый евразийский вариант, согласный веяньям времени, политическим установкам текущего момента, новым культурологическим стандартам и мировоззренческим построениям?
Поскольку между классическим евразийским проектом и евразийством «третьего тысячелетия» — более полувека, в работе рассмотрены философские, культурологические, идеологические и политические процессы, происходившие в течение этого времени.
При рассмотрении евразийства в контексте модернизма, в работе сделан вывод о том, что философы-евразийцы, не используя понятие «модерн», тем не менее, выстраивали модель идеального государства-континента как альтернативу модернизирующейся Европе. Модерн для евразийцев суть атлантическая цивилизация.
В контексте постмодерна сделан вывод о том, что евразийство здесь более всего сближается с антиглобалистским кругом идей. Несмотря на то, что между евразийством и антиглобализмом временной разрыв в несколько десятков лет, русский проект укладывается в общее идейное поле антиглобализма. Более того, рассмотрение евразийства в рамках антиглобалистских течений имеет потенциальную возможность дальнейшего оформления в идеологический проект общегосударственного значения, а также философскую систему, в которую укладывалась бы логика развития социокультурного взаимодействия разноэтнических и разноконфессиональиых стран на основе интеграции нового, антиглобалистского образца.
Вместе с тем в данной работе между евразийством и антиглобализмом не ставится знак равенства и черты антиглобализма в евразийстве трактованы как часть концептуальной модели постсоветского патриотизма.
При комплексном анализе евразийства в контексте постмодерна сделан вывод о доминантном значении виртуальных форм в развитии евразийства на современном этапе, поскольку возрождение проекта происходит в основном посредством масс-медиа, что в свою очередь вылилось в особую форму подачи евразийских тем и идей — в своеобразную философскую публицистику, для трансляции которой были созданы регулярные печатные издания философской и идеологической направленности. Особую популярность у евразийцев XXI века получает Интернет, где в основном и происходит оформление возрождающегося проекта.
Системно анализируя изменения евразийского проекта в границах современной социокультурной ситуации, для которой характерно превалирование идей постмодернизма, в данной работе сделан вывод о том, что евразийский проект, актуализированный на рубеже ХХ-ХХ1 веков, является новым течением — неоевразийством.
Задача — найти отличия евразийства и неоевразийства и выяснить сущ-ностны они или формальны, потребовала комплексного анализа евразийства в рамках неоевразийства, в результате чего сделан вывод о том, что неоевразийцы иначе трактуют базовые идеи классического проекта, а именно такие понятия, как «Евразия», «православие», «революция», «традиция», «личность», «геополитика».
Итак, в отличие от евразийцев неоеврзийцы понимают Евразию как Супердержаву, а не исходную точку духовного возрождения разных народов и культур.
В отличие от евразийцев, проповедовавших полный отказ от западных идеологий, невоевразийцы охотно обращаются к западной мысли, увлекаясь зарубежной политической философией (О. Шпенглер, В. Зомбарт, К. Шмитт, Э. Юнгер, Э. Никиш, Э. Фробениус), европейским традиционализмом (Р. Ге-нон, Ю. Эвола, Т. Буркхардт), «новой левой» критикой западного капитализма (Ж. Батай, Ж.-П. Сартр, Г. Дебор, М. Фуко, Ж. Делез), марксистской критикой (А. Грамши, Д. Лукач и т. д.), европейскими «новыми правыми» (А. де Бенуа, Р. Стойкерс, Ж. Тириар). Этот синтез ведет к размыванию базисного тезиса евразийства о недопустимости западных влияний.
Разные мысли высказываются евразийцами и неоевразийцами и по поводу государственного уклада, мысля идеократию в русле идей Ницше о Сверхчеловеке.
Неоевразийцы преобразуют и геополитические воззрения евразийцев, опираясь на новую российскую геополитическую школу. Кроме геополитической базы неоевразийцы начинают скрещивание евразийства с традиционалистской философией и историей религии.
Еще одно нововведение находится в плоскости предоставления оригинальной экономической модели. Неоевразийцы называют ее «гетеродоксаль-ной экономической традицией». По сути, неоевразийская экономическая теория является неким третьим путем между классическим либерализмом и марксизмом.
Иначе понимают неоевразийцы православие. Неоевразийский традиционализм идет другим путем и существенно отличается от «первоисточника». Зато традиционалистские воззрения неоевразийцев близки к религиозно-философским представлениям школы Рене Генона.
В ходе рассмотрения неоевразийства в контексте традиционализма в работе сделан вывод о том, что в неоевразийском прочтении традиционализм приобретает черты конспирологии. Далее, уже при рассмотрении неоевразийства, в границах конспирологии дано рабочее определение неоевразийской конспирологии как синкретического заговора, вмещающего черты разных видов заговоров.
Один из выводов данного исследования связан с общностью неоевразийства и постмодерна. В ракурсе заявленной проблематики дано рабочее определение преломлению постмодерна в неоевразийстве — неоевразийский дискурс. Неоевразийство, вобрав разнообразие идей постмодернистского круга, предложило свой вариант постмодерна — восточного евразийского, являющего собой синтез европейского постмодерна, европейского традиционализма, эзотерики, православия, конспирологии.
В ходе комплексного анализа неоевразийства в культурологическом контексте сделан вывод о наличии в проекте черт, характерных для современной социокультурной ситуации, а именно наличие механизмов промоутирования, тиражирования, создания виртуальной личности, создания пер-сонажности, виртуализация проекта. В отличие от евразийцев, неоевразийцы развивают свой проект посредством своренньж коммуникационных и медийных форматов. Занимаются самопиаром и промоутированием своего проекта. Создание и продвижение неоевразийства напоминает продуманную рекламную кампанию, поскольку при формировании ее стратегии четко учитывается переменчивая конъюнктура рынка идей. Когда в начале 90-х в России формируется запрос на артикуляцию русской национальной идеи, неоевразийцы начинают пропаганду евразийского классического проекта. На пороге нового тысячелетия — традиционного времени мистических предопределений — неоевразийский проект насыщается изотерикой. Понимая, что Россия ищет пути экономической стабильности, главный идеолог неоевразийства А. Дугин создает неоевразийскую экономическую версию.
Анализируя использование в процессе развития неоевразийства механизмов, характерных для социокультурной современной ситуации, а именно промоушена, пиара, реализации собственных идей в рамках социокультурных форматов, в данном исследовании сделан вывод о том, что неоевразийство является социокультурной полижанровой формой, характерной также и для ряда других социокультурных проектов, как российских, так и зарубежных. В данном исследовании дано рабочее определение новой формы — философский перформанс, описанный как культурологический феномен, представляющий собой процессуальное явление, актуализирующее философские идеи. Таким образом, культурологический феномен «неоевразийство» является философским перформансом — креативное усилие, которое реализует принцип инновации, заключающийся в том, чтобы вывести философию на самую грань реальности с помощью коммуникативных технологий, литературных, музыкальных и художественных средств.
Список литературы
- Аверьянов В. Традиции и традиционализм в научной и общественной мысли России (60−90 годы XX века) / В. Аверьянов // Общественные науки и современность. — М., 2000. — 67 — 77 с.
- Андреев А. Л. Российский социум на фоне реформ: общество, государство, нация / А. Л. Андреев // Мировая экономика и международные отношения.-М., 1999. № 5.
- Барт Р. Смерть автора / Р. Барт // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. — 616 с.
- Бахтин М. Проблемы творчества Достоевского / М. Бахтин // Собр. соч.: В 7 т.: т. 2. М.: Языки славянских культур, 2000. — 799 с.
- Бахтин М. Pro et kontra: В 2 т. / М. Бахтин. М.: Русский христианский гуманитарный институт, 2002. — 712 с.
- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек. М.: Прогресс. Традиция, 2000. — 384 с.
- Бенуа А. Против либерализма. К четвертой политической власти / А. Бе-нуа. М.: Амфора, 2009. — 240 с.
- Бердяев Н. А. Судьба России / Н. А. Бердяев. М.: Канон, 2004. — 352 с.
- Блок А. Избранное / А. Блок. М.: Профиздат, 2010. — 256 с.
- Ю.Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака / Ж. Бодрияр. М., 2007.-335 с.
- П.Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / Ж. Бодрияр. М.: Добросвет, 2009. — 387 с.
- Бузгалин А. Анти-Popper: социальное освобождение и его друзья / А. Буз-галин.-М., 2003.-448 с.
- Бузгалин А., Колганов А. 10 мифов об СССР / А. Бузгалин, А. Колганов. -М.: Эксмо, 2010.-448 с.
- Вербицкий М. Хаос и культура подполья / М. Вербицкий //1. Элементы. 2000. № 9.
- Вернадский В. Биосфера и ноосфера / В. Вернадский. М.: Айрис-пресс, 2003. — 576 с.
- Вернадский Г. История России / Г. Вернадский. М.: Аграф, 1999. -448 с.
- Вилента И. В. Концепция истории России в научном наследии евразийцев / И. В. Вилента: Автореф. канд. дис. М., 1996.
- Вронская JI. Эдуард Лимонов как зеркало русского постмодернизма / Л. Вронская // Русский постмодернизм: предварительные итоги. -Ставрополь, 1998. 134−140 с.
- Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени /А.
- Генисаретский О. Евразийская перспектива / О. Генисаретский. М.:
- Межд. фонд «Культура и будущее России», 1994. 367 с.
- Генон Р. Духовное владычество и мирская власть / Р. Генон //
- Волшебная гора. М., 2004. № 2. — 56 с.
- Генон Р. Очерки о традиции и метафизике / Р. Генон. М.: Азбукаклассика, 2010. 320 с.
- Гомонов А. Традиции в системе общественных отношений / А.
- Гомонов. М., 1970. — 245 с.
- Гончаров Е. Логика идеократии или роль систематизированнойрепрессии в идеократическом государстве / Е. Гончаров // Молодежь Сибири науке России: материалы научной конференции студентов, аспирантов, исследователей. — Красноярск, 2001. — 62−66 с.
- Гордеев А. Политическая идеология французского консерватизмапервой половины XIX века / А. Гордеев: Дисс. канд. полит, наук: 23.00.01: М., 2003. 152 с. РГБ ОД, 61: 04−23/28−8.
- Гумилев Л. Древняя Русь и Великая Степь / Л. Гумилев. М.: Айрис1. Пресс, 2008. 736 с.
- Гумилев JI. История как форма движения энергии / Л. Гумилев. М.: ACT, 2008. — 960 с.
- Гумилев Л. Открытие Хазарии / Л. Гумилев. М.: Айрис-пресс, 2009.- 416 с.
- Гумилев Л. От Руси до России / Л. Гумилев. М.: Айрис-пресс, 2008. — 320 с.
- Гумилев Л. Поиски вымышленного царства / Л. Гумилев. М.: Айрис-пресс, 2009.-432 с.
- Гумилев Л. Ритмы Евразии / Л. Гумилев. М.: ACT, 2007. — 528 с.
- Гумилев Л. Тысячелетие вокруг Каспия / Л. Гумилев. М.: Харвест, 1998. — 592 с.
- Гумилев Л. Черная легенда / Л. Гумилев. М.: Айрис-пресс, 2008. — 560 с.
- Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли / Л. Гумилев. М.: ACT, 2010.-560 с.
- Делез Ж. Критика и клиника / Ж. Делез. М.: Mashina, 2002. — 240 с.
- Делез Ж. Переговоры / Ж. Делез. М.: Наука, 2004. — 240 с.
- Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари. М.: У-Фактория, 2007. — 672 с.
- Джемаль Г. Революция пророков / Г. Джемаль. М.: Ультра-Культура, 2003. — 345 с.
- Достоевский Ф. Полн. собр. соч.: В 18 т.: т. 16 / Ф. Достоевский. М.: Воскресенье, 2006. — 596 с.
- Дугин А. Абсолютная Родина / А. Дугин. М.: Арктогея-центр, 1999.-752 с.
- Дугин А. Геополитика постмодерна: времена новых империй: очерки геополитики XX века / А. Дугин. М.: Амфора, 2007. — 624 с.
- Дугин А. Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева / А. Дугин. М.: РОФ Евразия, 2004. — 288 с.
- Дугин А. Евразийство: от философии к политике / А. Дугин // Независимая газета. 2001. — 30 мая.
- Дугин А. Знаки великого народа / А. Дугин. М.: Вече, 2008. — 320 с.
- Дугин А. Консервативная революция /А. Дугин. М.: Арктогея-центр, 2004.-450 с.
- Дугин А. Конспирология / А. Дугин. М.: РОФ Евразия, 2005. — 624 с.
- Дугин А. Обществоведение для граждан Новой России / А. Дугин. М.: Евразийское движение, 2007. — 784 с.
- Дугин А. Основы геополитики: геополитическое будущее России / А. Дугин. М.: РОФ Евразия, 2004. — 608 с.
- Дугин А. Русская вещь: В 2 т. / А. Дугин. М.: Арктогея-центр, 2001. -624 с.
- Дугин А. Сакральный патриотизм / А. Дугин. М.: Арктогея-центр, 2002. — 345 с.
- Дугин, А. Тонкий хлад революции / А. Дугин // Абсолютная Родина. М.: Арктогея-центр, 1999. -465 с.
- Дугин А. Философия войны / А. Дугин. М.: Эксмо, 2004. — 250 с.
- Дугин А. Философия политики / А. Дугин. М.: Арктогея-центр, 2004.- 616 с.
- Дугин А. Философия традиционализма / А. Дугин. М.: Арктогея-центр, 2002. — 624 с.
- Дугин А. Эволюция парадигмальных оснований науки / А. Дугин. М.: Арктогея-центр, 2005. — 418 с.
- Дугин А. Экономические аспекты неоевразийства (либерал-евразийство) / А. Дугин // Философия хозяйства. 2002. № 3. — 70−81 с.
- Думава К. Влияние новых традиций на формирование личности / К. Дума-ва.-М., 1970.-320 с.
- Евразийский Вестник: интернет-журнал: № 1. Режим доступа: http: // • www.rusidea.ru
- Ильин И. Родина и мы / И. Ильин. Смоленск, 1995. — 331 с.
- Исаенко Г. Н. Роль исторической преемственности в развитии науки / Г. И. Исаенко. М., 1969. — 345 с.
- Карамзин Н. История государства Российского / Н. Карамзин. Спб.: Астрель, 2010.-544 с.
- Кара-Мурза С. Советская цивилизация: от начала до наших дней / С. Кара-мурза. М.: Эксмо, 2008. — 1200 с.
- Карсавин J1. Религиозно-философские сочинения / JI. Карсавин. М., 1992.-406 с.
- Кикодзе Е. Новый русский перформанс и мифология «искусство-жизнь»/ Е. Кикодзе // Комод: журн. Екатеринбург зима-весна. — 1998. — 65−68 с.
- Кожинов В. История Руси и русского слова / В. Кожинов. М.: Алгоритм, 1999. — 605 с.
- Козловский, П. Культура постмодерна / П. Козловский. М., 1997. -238 с.
- Коровин В. Сетевые войны. Угроза нового поколения / В. Коровин. -М.: Евразийское движение, 2009. 350 с.
- Кристева Ю. Силы ужаса. Эссе об отвращении / Ю. Кристева. М.: Алетейя, 2003. — 256 с.
- Кристева Ю. Смерть в Византии / Ю. Кристева. М.: ACT, 2007.-352 с.
- Леонтьев К. Восток, Россия и Славянство / К. Леонтьев. М.: Эксмо, 2007. — 896 с.
- Леонтьев К. Записки отшельника / К. Леонтьев. М.: ACT, 2004.-237 с.
- Лимонов Э. Книга мертвых / Э. Лимонов. СПб.: Лимбус Пресс, 2001.-283 с.
- Лимонов Э. Священные монстры / Э. Лимонов. М.: Ad Marginem, 2004.-313 с.
- Липовецкий М. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики / М. Липовецкий. Екатеринбург, 1997. — 317 с.
- Лосский Н. О. История русской философии / Н. О. Лосский. М.: Высшая школа, 1991. — 560 с.
- Люкс Л. Заметки о «революционно-традиционалистской» культурной модели «евразийцев» / Л. Люкс // Вопросы философии. 2003. № 7 -С. 23−34.
- Мамардашвили, М. Как я понимаю философию / М. Мамардашвили. -М.: Прогресс, 1990. 365 с.
- Манхейм К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм. М.: Юрист, 1994. — 700 с.
- Маркузе Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. М.: АСТ, 2003.-331 с.
- Метафизические исследования: альманах. Вып. XV. Искусство II. М.: Алетейя, 2000. — 348 с.
- На путях. Утверждение евразийцев. Москва — Берлин, 1922. — 406 с.
- Ниязов, Абдул-Вахед. Беседа на радио «Эхо Москвы» 6 октября 2006.
- Объект исследования искусство. По страницам «Культурологическихзаписок». М.: Индрик, 2006. — 520 с.
- Панарин А. Искушение глобализмом / А. Панарин. М.: Русский наци-он. фонд, 2000.-381 с.
- Пащенко В. Социальная философия глазами евразийства / В. Пащенко. М.: Альфа-М, 2003. — 368 с.
- Пономарева Л. Типология евразийства / Л. Пономарева // Русская эмиграция в Европе в 30-е гг. XX в. М., 1996. — 426 с.
- Проблемы наследия в теории искусства / Отв. ред. М. А. Лифшиц. М.: Искусство, 1984. — 300 с.
- Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М.: Наука, 1993.-369 с.
- Русский мир. Геополитические заметки по русской истории. М.:1. Эксмо, 2003.-864 с.
- Савицкий П. Н. Континент Евразия / П. Н. Савицкий. М.: Аграф, 1997. — 464 с.
- Синий диван: журн. М.: Три квадрата, 2004. № 5. — 256 с.
- Степун Ф. Россия между Европой и Азией / Ф. Степун // Евразийский соблазн. М., 1993. — 456 с.
- Сувчинский П. К преодолению революции / П. Сувчинский // Русский узел евразийства. М., 1997. — 389 с.
- Тойнби А. Постижение истории / А. Тойнби. М.: Айрис-пресс, ' 2006.-640 с.
- Традиции в познании и культуре. М., 1986. — 456 с.
- Трельч Э. Историзм и его проблемы / Э. Трельч. М.: Юрист, 1994. — 708 с.
- Трубецкой Н. История. Культура. Язык / Н. Трубецкой. М., 1995. -458 с.
- Трубецкой Н. Наследие Чингисхана / Н. Трубецкой. М.: Эксмо, 2007. — 734 с.
- Трубецкой Н. О туранском элементе в русской культуре / Н. С. Трубецкой // История. Культура. Язык. М., 1995. — 607 с.
- Трубецкой Н. С. Письма и заметки / Н. С. Трубецкой. М.: Языки славянской культуры, 2004. — 608 с.
- Тьер де Шарден П. Божественная среда / П. Тьер де Шарден. М.: ACT, 2003.-314 с.
- Французская психоаналитическая школа / Под ред. А. Жибо, А. В. Россохина. Спб.: Питер, 2005. — 576 с.
- Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма. М.: ACT, 2005.-592 с.
- Хлебников В. Творения / В. Хлебников. М.: Сов. писатель, 1997. -730 с.
- Цветков А. Штирнер-Прудон. Два полюса анархии / А. Цветков //1. Элементы. 2000. № 9.
- Чистов К. Народные традиции и фольклор / К. Чистов. М.: Наука, 1986.-304 с.
- Шестов Л. Афины и Иерусалим / Л. Шестов. М.: ACT, 2007. — 413 с.
- Шишкин И. Учение Л. Н. Гумилева, евразийство и русский вопрос / И. Шишкин // Сборник тезисов 2-х Гумилевских чтений, 1998.1. С. 45−51.
- Эко У. Verigo: круговорот образов, понятий, предметов / У. Эко. М.: Слово, 2009. — 408 с.
- Эко У. История уродства / У. Эко. М.: Слово, 2009. — 456 с. 1.12. Янов А. Россия против России. Сибирский хронограф / А. Янов.1. Новосибирск, 1999. 362 с.