Насилие в политическом дискурсе фундаменталистских движений в современном арабском мире
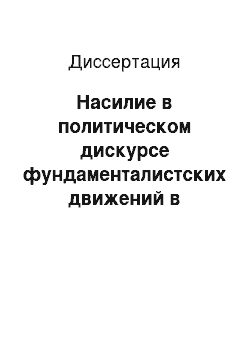
Появилось много специализированных исследований, посвященных проблематике насилия, таковы, например, работы Чарльза Риверы и Кеннета Свитцера, Эдварда Мюллера, Ван ден Хагга, Мидларски, Нилссон Р. Голдстон Б., Шварц М. Если этим трудам присущ идейно-теоретический характер, то в большинстве прикладных исследований на европейских языках данный феномен рассматривается так, как он воплощается… Читать ещё >
Содержание
- Глава I. Насилие и его политические формы в современном арабском мире
- 1. Понятие насилия в современной философской и политической мысли
- 2. Предпосылки и причины насилия в современном арабском мире
- ГЛАВА II. Сущность и политический дискурс современных исламских фундаменталистских движений
- 1. Сущность исламского фундаментализма и исторические предпосылки его возникновения
- 2. Важнейшие политические принципы идеологии исламских фундаменталистских движений
- 3. Политический дискурс современных исламских фундаменталистских движений
- ГЛАВА III. Особенности и уровни насилия у фундаменталистских движений (на примере «Аль-Каиды»)
- 1. Анализ дискурса исламских фундаменталистских движений (на примере «Аль-Каиды»)
- 2. Факторы, способствующие воздействию «Аль-Каиды» на аудиторию
- 3. Перспективы феномена насилия у современных исламских фундаменталистских движений
Насилие в политическом дискурсе фундаменталистских движений в современном арабском мире (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность исследования. Одна из серьезных проблем, касающихся насилия, заключается в том, что оно вмещает в себя целый ряд составных элементов, связанных как с самим существованием человека, так и с историей государства и культуры. Насилие возникло одновременно с появлением человечества, став частью становления индивидуума, сообщества, государства, культуры и цивилизации. Отсюда — его инстинктивные проявления в поведении подростка, различные формы насилия в семье, его запечатленность в традициях, в нормах воспитания, в «священных» текстах, в экстремистских идеологиях, радикальных движениях, тоталитарных режимах и т. п.
Насилие как демонстрация силы тесно связано с природно-инстинктивным существованием человека, как социальное явление — с возникновением человеческих сообществ, как политический феномен — со становлением и эволюцией государства, а как идея или даже философия — с развитием человеческой мысли и поиском возможных альтернатив. Вследствие этого составные элементы и различные аспекты насилия переплетаются и взаимодействуют между собой в жизни наций и государств, накладывая отпечаток на их реальную историю с ее внутренними и внешними проблемами.
Если внимательно и непредвзято взглянуть на насилие как социальный феномен, обнаружится, что обычно ему сопутствует закрытость общества, слабости закона, отсутствие свобод. Неслучайно возникли теории и философские концепции «рационального насилия», возводившие его в ранг образца политической практики, идеального воплощения свободы.
Такая искаженная трактовка рационалистической идеи есть не что иное, как оборотная сторона закрытости общества, отражение диспропорции между правящим режимом и обществом, отсутствия гражданских свобод. з.
Иными словами, идея «рационального насилия» возникает и оформляется в качестве одного из примеров концептуального и практического противодействия состоянию закрытости, недостатка свобод и слабости закона. В подобной ситуации насилие превращается в методическую идею и практический способ, приобретающий позитивную нравственную и юридическую оценку. Такова, например, идея «революционного насилия» и тому подобные варианты, доминирующие в разного рода экстремистских, радикалистских и революционных идеологиях.
Однако исторический опыт показывает, что противодействие государственному насилию, являющемуся элементом эволюции правящего режима, с помощью революционного насилия, диктуемое идеологическими постулатами, чаще всего приводит к возникновению системы насилия, противоречащей самой функции государственной власти, т. е. к результату, прямо противоположному тому, который провозглашался данной идеологией.
Это противоречие можно наблюдать не только в рамках национального государства, но и в мировом масштабе. Такова, например, глобализация с ее разнообразными порождениями. Насилие и контрнасилие органично присущи глобализации, которой свойственно преобладание идеи гегемонии как средства и как конечной цели. Глобализация устремлена к тому, чтобы выработать «рациональную» формулу разделения труда и интересов, выстроить «новый мировой порядок». Но это есть не что иное, как попытка возродить, пусть в несколько облагороженном виде, сущность и традиции отношений «центр — периферия». Это противоречивый исторический процесс, который заключает в себе разнообразные вероятия, но на данном этапе он все еще пребывает в контексте преобладания частичных (не всеобщих) интересов.
Все это указывает на сложный характер феномена насилия. Если глобализация — объективный процесс, являющийся естественным результатом эволюции мировой истории, развития государства, нации, политической системы, философских идей, идеологии и культуры, то организованное насилие, возведенное в ранг духовно-нравственного кредо и политической идеи, представляет собой очевидную угрозу. С одной стороны, оно отражает сохраняющиеся традиции рационализма, а с другой — воспроизводит их, увязывая их с религиозными верованиями. Вследствие этого оно наиболее пагубно воздействует на сознание, разрушает разум и подрывает нравственное чувство, становясь кульминацией одной из самых крайних и иррациональных форм сознания и политической практики.
Прямо или косвенно идея насилия порождает тоталитарные механизмы особого рода — что наглядно прослеживается на примере радикальных религиозно-политических фундаменталистских движений. Отсюда вытекает необходимость исследования данного феномена и его перспектив, уделяя внимание его историческому контексту, предпосылкам появления, методам действия и причинам влияния.
Вместе с тем, хотя за феноменом насилия стоят серьезные экономические, социальные, политические и культурные предпосылки, они не обязательно порождают насилие в любом государстве или сообществе государств. Тем не менее, они могут стать плодородной почвой для распространения насилия, едва к этому возникнут внутренние или внешние побудительные мотивы. Чаще всего решающими факторами ориентации общественного и политического сознания в направлении насилия являются культура и идеология.
Если взглянуть на ситуацию, имеющую место в современном арабском мире, мы увидим, что феномен насилия проявился здесь начиная со второй половины двадцатого века в силу комплекса экономических, социальных, политических и культурных (традиционно-религиозных) 5 предпосылок. Негативные социально-экономические факторы сыграли важную роль в том, что насилие стало распространенным явлением в современном арабском мире, превратившись в одно из наиболее заметных способов протеста против неблагоприятного положения массы населения.
Всем этим предопределяется актуальность исследования. В своей работе мы проследили, какие факторы стимулируют насилие, пропагандируемое и применяемое исламскими фундаменталистскими движениями, что помогает им придавать насилию легитимный характер, превращать его в важнейшее средство достижения своих целей и даже возводить его в ранг священных ценностей, отождествляя его с понятием джихада. Кроме того, актуальность исследования определяется необходимостью изучить инструменты воздействия фундаменталистских движений на общественное сознание. Это важно для того, чтобы понять природу и механизм фундаменталистского насилия, то есть исследовать насилие как социальных феномен, используемый исламскими фундаменталистскими движениями в политических целях, а также как политический феномен, который может быть использован в социальных целях в современном арабском мире.
Степень научной разработанности темы исследования. Методы и уровни исследования феномена насилия были весьма разнообразными. Это предопределялось сложностью, комплексностью данного явления, которое привлекало и продолжает привлекать внимание представителей самых разных научных дисциплин — таких, как философия, социология, психология, история, политология и др. Кроме того, этой темой интересовались представители разнообразных творческих профессий: писатели, поэты, драматурги, кинематографисты и т. д.
Поскольку проблематика насилия тесно связана с властью, государством и обществом, постольку к этому феномену проявляют наибольший интерес политология, социология вообще и социальная философия в частности.
Этой проблематике уделялось значительное внимание различными философскими школами. Они исследовали различные аспекты насилия: политические, социальные и личностные. Если философия в целом уделяла главное внимание методологическим параметрам анализа проблемы насилия, в особенности его политических и социальных аспектов, то эти же аспекты представили главный интерес для современной политологии и социологии.
Появилось много специализированных исследований, посвященных проблематике насилия, таковы, например, работы Чарльза Риверы и Кеннета Свитцера, Эдварда Мюллера, Ван ден Хагга, Мидларски, Нилссон Р. Голдстон Б., Шварц М. Если этим трудам присущ идейно-теоретический характер, то в большинстве прикладных исследований на европейских языках данный феномен рассматривается так, как он воплощается на европейском и американском Западе, особенно в Германии и Италии. R. Anders Nilsson. Political Violence in Post-Conflict Societies: Remarginalisation, remobilisers and relationships, New York, Hardback (Routledge), December, 2010; Brian Goldstone. Violence and the Profane: Islamism, Liberal Democracy, and the Limits of Secular Discipline, Anthropological Quarterly, 2007; Amartya Sen. Identity And Violence: The Illusion Of Destiny, Penguin Group (UK), 2006; Marcy E. Schwartz. Violence and Ethics, Austin: U of Texas, The Johns Hopkins University Press, 2003; Bruce B. Lawrence. Shattering the Myth: Islam beyond Violence, Princeton, Princeton University Press, 2000; Manus I. Midlarsky. Rulers and Ruled: Patterned Inequality and the Onset of Mass Political Violence, American Political Science Review, vol., 82, no 2, 1988. Edward N. Muller: Income Inequality, Regime Repressiveness and Political Violence, American Sociological Review, vol., 50, no. 1, February 1985; Charles Rivera and Kenneth Switzer: Violence, New Jersey, Hayden Book Company, 1976; Ernest Van Den Hagg: Political Violence and Civil Disobedience, New York, Harper Torch Book, 1972.
В то же время увеличивается количество работ, посвященных понятию и сущности фундаментализма (например, работы Почты Ю. М.)1, предпосылкам возникновения, религиознополитического экстремизма и фундаментализма (например, работы Мирского Г. Семеновой, О.А. л.
Антоун Р. Веинберг JL Педахзур А.), исламского фундаментализма (например, работы Милтон Эдварде Б. Кац С. Зейдан Д.)4, особенностям фундаменталистского насилия и террора и его перспективам (например, работы Аль-Джанаби М.М., Ланды Р.Г.)5.
1 Почта Ю. М. Фундаментализм — угроза илн спасение? В //кн. Социальное: истоки, структурные профили, современные вызовы. -М. РОССПЭН. 2009. (в соавт. с Мальковской И.А.).
2 Мирский, Г. Исламский фундаментализм, сунниты и шииты // Мировая экономика и междунар. отношения. — М., 2008. — № 9- Семенова, О. А. Исламский фундаментализм как течение политической мысли: генезис, идеи, этапы и тенденции развития // Вестн. моек. Ун-та. Сер. 12, Полит, науки. — М., 2007. — № 1- Алексеев, И. Собирание расколотой уммы: фундаментализм как реинтерпретация исламской истории // Ab imperio. — Казань, 2004. -№ 3.
3 Richard Т. Antoun: Understanding fundamentalism: Christian, Islamic, and Jewish movements, Middle East Quarterly, New York, 2008; Ralph W. Hood Jr., Peter C. Hill, W. Paul Williamson. The Psychology of Religious Fundamentalism, Guilford Press, 2005; Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism, Princeton University Press, 2004; Leonard Weinberg, Ami Pedahzur. Religious Fundamentalism and Political Extremism, London. Publisher: Frank Cass, 2004; Gerrie Ter James J. Busuttil Haar. The Freedom to Do God’s Will: Religious Fundamentalism and Social Change, Routledge, 2002.
4 Beverly Milton-Edwards. Islamic Fundamentalism since 1945, New York, Publication Year, Publisher Routledge, 2004; Samuel M. Katz. Jihad: Islamic Fundamentalist Terrorism, Lerner, 2004; Beverly Milton-Edwards, Roxanne L. Euben. Enemy in the Mirror: Islamic David Zeidan. The Resurgence of Religion: A Comparative Study of Selected Themes in Christian and Islamic Fundamentalist Discourses, Brill, 2003;Barry M. Rubin: Islamic fundamentalism in Egyptian politics, International Journal of Middle East, New York, 2002.
5. Аль-Джанаби М. М. Ирак и будущее. — Багдад, 2009 (на арабск. яз.) — Аль-Джанаби М. М. Безумие священного террора. Фундаментализм без фундамента. — Багдад, 2006 (на арабск. яз.) — Ланда, Р. Г. Политическая культура и насилие в мире ислама // Ближний Восток и современность. — М., 2004. — Вып. 23- Ланда, Р. Г. Истоки и тенденции развития исламского терроризма // Ближний Восток и современность. — М., 2003. — Вып. 17.
Тем не менее, появление «феномена исламизма» привело к громадному росту числа исследований, касающихся насилия — правда, сосредоточивших внимание лишь на «исламском терроризме"1.
В других работах главное внимание уделяется глобальным параметрам терроризмаздесь исследуются аспекты терроризма как явления, сопряженного с международными отношениями2.
Появилось также много кандидатских и докторских диссертаций, в которых затрагиваются различные аспекты насилия. Большинство из них посвящено насилию в семье, в гражданских отношениях, в преступном мире и т. д. Что касается диссертаций, касающихся проблем социального и политического насилия, то их темы весьма различны: это и исследование феномена насилия исходя из критериев исторического развития, и на социально-классовом уровне, и в общемировом масштабе (политика и глобализация), и в контексте военных конфликтов, и т. п. .
John Horgan, Kurt Braddock: Terrorism Studies, New York, Imprint: Routledge, 2010; Stephen Vertigans. The Sociology of Terrorism: Peoples, Places and Processes, New York, Imprint: Routledge, 2010; Javier Argomaniz. The EU and Counter-Terrorism: Politics, Polity and Policies after 9/11, New York, Hardback (Routledge), 2010;Barry Cooper: New Political Religions, Or, an Analysis of Modern Terrorism, University of Missouri Press, 2004; Don J. Feeney. Creating Cultural Motifs against Terrorism: Empowering Acceptance of Our Uniqueness, Praeger, 2003;.Другов А. Ю. Вопросы генезиса и динамики исламского экстремизма и терроризма на примере Индонезии.-М., 2003; Глущенко, Ю. Н. Исламский фактор во внешней политике США: трагедия 11 сентября как бумеранг «холодной войны» // Проблемы внешней и оборонной политики России. — М., 2002; Коровиков А. В. Исламский экстремизм в арабских странах.-М., Наука, 1999.
2. Степанова, Е. Исламский терроризм сегодняшнего дня: глобальный и локально-региональный уровни // Индекс безопасности = Security ind. М. и др., 2007. — Т. 13, № 1- Мелвин, Н.Дж. Ислам, конфликты и терроризм // Ежегодник СИПРИ = Sipri yearbook: Вооружение, разоружение и междунар. безопасность. — М., 2007; Медведко Л. И. Международный терроризм — составляющая антиглобалистского движения. М. Крафт +, 2003; Мирский, Г. И. Международный терроризм, исламизм и палестинская проблема: -М., 2003. Кривохижа, В. И. Современный мир и международный терроризм в условиях глобализации // Дипломатический ежегодник. — М., 2003.
3. Мочалин Николай Дмитриевич. Эскалация террористического насилия в мире в эпоху глобализации: истоки, факторы, тенденции: Дис.. канд. полит, наук: 23.00.04 Москва, 2006; Мельников Владимир Юрьевич. Военное насилие в региональныхи локальных конфликтах современности: Дис.. канд. полит, наук: 23.00.02: Москва, 2005; Ахтаев Абдула Мовлыдыевич. Культурная легитимация политического насилия в процессах 9.
Однако в большинстве этих работ насилие не рассматривается как комплексный феномен и не выработаны конкретные, четкие критерии анализа этого явления, его параметров и следствий. Кроме того, данный феномен не исследуется в его развитии и взаимодействии — как вообще, так и, в частности, в том, что касается его специфики у исламских фундаменталистских движений в современном арабском государстве. Между тем следует определить концептуальные и практические критерии подхода к феномену насилия, от которых зависит методика исследования.
Цель и задачи исследования
Цель настоящего диссертационного исследования заключается в том, чтобы исследовать механизм использования идеи насилия в дискурсе и общественно-политической практике исламских фундаменталистских движений в современном арабском государстве. Достижение данной цели связано с решением следующих научно-практических задач:
— показать, как определялось насилие различными философскими и общественно-политическими школами и направлениями;
— вскрыть взаимосвязь между фундаменталистской идеологией и идеей насилияисследовать и проанализировать предпосылки приятия фундаменталистского насилия общественным сознанием в современном арабском государствеглобализации: Дис.. канд. социол. наук: 22.00.06: Ростов н/Д, 2004; Шевченко Оксана Вадимовна. Феномен насилия в международно-политических конфликтах современности: Дис.. канд. полит, наук: 23.00.04: Москва, 2004; Ибрагимов Радий Назибович. Проблема социального насилия как фактор исторического процесса: Дис.. д-ра филос. наук: 09.00.11: Абакан, 2003; Сытых Елена Львовна. Роль и значение насилия в культуре: Дис. канд. культурологических наук: 24.00.01: Челябинск, 2003.
— провести сравнительное полевое исследование взаимозависимости между фундаменталистским насилием и социально-политической действительностью в современном арабском государстве;
— дать прогноз относительно перспектив фундаменталистского насилия.
Объектом диссертационного исследования выступает идея насилия и пути ее использования исламскими фундаменталистскими движениями в современном арабском государстве.
Предметом диссертационного исследования служит прежде всего идеология и социально-политическая практика фундаменталистских движений вообще и организации «Аль-Каида» в качестве примера — в частности.
Методология диссертационного исследования. Ввиду комплексного характера феномена насилия и взаимопереплетенности его параметров и проявлений, особенно в том, что касается его религиозно-политического использования исламскими фундаменталистскими движениями, в диссертации был использован ряд научных методов, важнейшие из которых можно свести к следующему:
— исторический метод использовался при рассмотрении исторической эволюции феномена насилия и при анализе наиболее крупных трудов, в которых обосновывалась и интерпретировалась идея насилия. В особенности это относится к первой и третьей главам диссертации;
— аналитический метод. Этот метод использовался в нескольких разделах диссертации, особенно в ходе анализа информации, касающейся феномена насилия и количества насильственных актов, а также данных о фундаменталистских движениях и о социально-экономическом и политическом положении современных арабских стран, в частности во второй и третьей главах диссертации;
— сравнительный метод был использован при сопоставлении примеров, исследованных в диссертации, виднейших идейных школ, обращавшихся к феномену насилия, а также при сравнении информации о насильственных актах со статистическими данными, полученными в ходе исследования;
— статистический метод был применен в ходе статистического обследования, проведенного в семи арабских государствах (Сирия, Иордания, Палестина, Ирак, Йемен, Египет и Алжир) и охватившего 1400 респондентов. Данный метод использован в третьей главе.
Кроме того, автором были использованы классические труды философов, политологов и социологов, затрагивающие проблематику насилия. Использованы и произведения идеологов фундаменталистских движений — таких, как Хасан аль-Банна, Сейид Кутб, аль-Мавдуди и др.
Положения, выносимые на защиту:
1. Отсутствие рациональной и демократической системы политической интеграции общественно-политических слоев является одной из коренных причин нарастания политико-мировоззренческого радикализма вообще и политического экстремизма в частности.
2. Отсутствие мирной политической жизни в современном арабском мире и отдельных его государствах привело к возникновению насилия как феномена, параметры которого не сводятся лишь к политике, но затрагивают также социальные и иные аспекты.
3. Активизация использования насилия путем его легитимации современными фундаменталистскими движениями тесно связана с нарастанием и углублением кризиса политической системы и ее.
12 легитимности в современных арабских государствах. Следовательно, вероятно нарастание насилия на разных уровнях и с разной степенью интенсивности в каждом отдельном арабском государстве, причем его формы и масштабы зависят от того климата и тех причин, которые выводят его на передний план.
4. Существует корреляция между нарастанием социально-экономического и политического кризиса и готовностью различных общественных слоев к приятию идеи насилия в том виде, в котором его пропагандируют и применяют фундаменталистские движения.
5. Насилие стало неотъемлемой частью идеологии и методики современных исламских фундаменталистских движений.
6. Сохранение или снижение эффективности насилия у современных фундаменталистских движений в значительной степени будут зависеть от того, удастся ли создать рациональную и легитимную альтернативу существующему государству, его политической системе и общественным отношениям.
Научная новизна диссертационного исследования проявляется в следующем: насилие подвергнуто исследованию как комплексный феномен, затрагивающий не только политику, но и социальные, культурные и религиозные аспектынасилие исследовано как социальный феномен, который может использоваться в религиозно-политических целях. В диссертации не только изучены его различные проявления, но и определены стимулирующие его причины и пути использования насилия исламскими фундаменталистскими движениями в современном арабском государствепоказано, как идея насилия превращается у исламских фундаменталистских движений в цель и метод их теоретической и практической деятельности, используется для воздействия на общественное сознание в современном арабском государствевскрыт характер взаимозависимости между распространением исламских фундаменталистских движений и нарастанием насилия, с одной стороны, и неудовлетворительной общественно-политической и экономической ситуацией — с другой, показано, как именно насилие превращается в неотъемлемую органичную идею и средство в идеологии и практике современных исламских фундаменталистских движенийвыводы, сделанные автором, подкреплены исследованием корреляции между тремя основными показателями: распространенность исламских фундаменталистских движений, нарастание социального и политического насилия и бытовое, социальное и политическое положение в стране. Для этого использованы официальные доклады ООН, соответствующие статистические данные, касающиеся арабского мира, а также опрос 1400 респондентов в семи арабских государствах (Ирак, Сирия, v>
Палестина, Иордания, Йемен, Египет и Алжир) — показано, что рациональная и легитимная альтернатива государству, политической системе и общественным отношениям в современном арабском мире обеспечит снижение действенности насилия в его фундаменталистской трактовке.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что она вносит вклад в научное исследование и анализ феномена насилия, в частности у фундаменталистских движений, а также в том, что она затрагивает различные аспекты насилия, изучаемые политологией, сравнительной политологией и политической социологией.
Практическое значение исследования заключается в том, что содержащиеся в нем выводы могут быть использованы для изучения проблематики насилия, особенно его практического применения современными политическими движениями, в первую очередь религиозно-политическими группировками в арабском мире. Кроме того, диссертация может быть использована при преподавании курсов таких научных дисциплин, как политическая социология, сравнительная политология и вайоленсологи я. Материалы диссертации можно использовать при подготовке специализированных лекций о политической жизни и проблемах арабского мира, а также по конфликтологии. Кроме того, содержащиеся в ней выводы могут оказаться полезными при выработке практических рекомендаций по преодолению насилия как феномена.
Апробация диссертационной работы. Некоторые положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в научных публикациях автора. Диссертация обсуждена на заседании кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов 23 марта 2010 г.
Структура работы определяется постовленными задачами и целями и исследования и включает в себя введение, три главы, заключение и библиографию.
Заключение
.
Один из парадоксов современной политической истории состоит в том, что одновременно с возрастанием необходимости в рациональном подходе к построению правового государства, гражданского общества и открытой культуры нарастает насилие с его различными формами, уровнями и проявлениями. Иначе говоря, процесс глобализации сосуществует с процессом нагнетания насилия. Данная взаимосвязь не является неизбежнойтем не менее, она отражает повсеместное воздействие крупных глобальных трансформаций на традиционную структуру общества, на остатки того, что в философии называют «гневной душой» в политическом поведении государств, то есть все то, внешние признаки чего мы наблюдаем в дихотомии «центр — периферия».
Если раньше социальная и политическая борьба ограничивалась рамками национального государства, а следовательно определялась характером его внутренних кризисов, то двадцатый век расширил эти рамки, вовлекая всех в борьбу на разных уровнях и в различных формах. Вследствие этого насилие как одно из проявлений политической борьбы приобрело самые разнообразные формы на локальном, региональном и общемировом уровнях. Одним из радикальных и впечатляющих проявлений насилия стал терроризм, также получивший распространение как в локальном, так и в региональном и всемирном масштабах.
Все это позволяет говорить о существовании взаимосвязи между внутренними и внешними, локальными и региональными, региональными и глобальными проявлениями насилия. В процессе эволюции феномена насилия с его разнообразными формами и уровнями данная взаимосвязь приобрела характер политической аксиомы. Однако, как известно, аксиоматичность в политике не противоречит сложности явления, затрудненности определения природы его воздействия. Будучи очевидным повсеместным феноменом, насилие не существует изолированно от конкретных личностей, сообществ, традиций и культур.
Эта общая идея была положена в основу нашего исследования, логики анализа социологии насилия вообще и феномена насилия у фундаменталистских исламских движений в современных арабских государствах в частности.
Анализ и сравнение крупных философских школ, обращавшихся к феномену насилия — таких, как анархизм, марксизм и фрейдизм, свидетельствуют о том, что каждая из них стремилась по-своему понять и истолковать данный феномен. Однако все они представляли свое частичное видение проблемы в качестве всеобъемлющего или, по крайней мереб, отвергали прочие аспекты данного явления. В этом заключается недостаток и противоречие концептуальных подходов к исследованию феномена насилия как в методологическом, так и в практическом отношении.
Ввиду сложности феномена насилия и множественности его форм и проявлений к нему нельзя подходить, классифицировать его исходя из какого-то одного критерия. Критериев классификации может быть много — в зависимости от того, под каким углом зрения исследователь подходит к тому или иному феномену, а также от количества и качества участников, от их целей и мотивов. Это в полной мере относится к исследованию феномена насилия у современных исламских фундаменталистских движений. В связи с этим необходимо подвергнуть анализу сам исламский фундаментализм, выявить, каким образом он сформулировал и усвоил идею насилия и как это повлияло на его политическую и социальную активность. Иначе говоря, нужно проанализировать и исследовать радикалистское «религиозное видение» и то, каким образом оно воздействовало на ситуацию.
В ходе работы на диссертацией мы пришли к выводу о том, что крупнейшей «колыбелью» насилия стало религиозно-фундаменталистское видение, в основе которого лежит социальное неприятие, культурное отторжение, тотальный разрыв с несогласными. Таким образом, возникновение феномена насилия в арабском мире связано в первую очередь с религиозно-культурными факторами. Соединение религиозно-мировоззренческого фанатизма с идейным и культурным застоем, задействование его через выдвижение лозунгов «священной борьбы» (религиозной и политической) оказали решающее влияние на усиление насильственных тенденций. Такая ситуация постоянно подпитывается той культурой, тем менталитетом, который не приемлет разнообразия и плюрализма, не признает за «другим» права на собственное мнение и даже на существование, а оптимальным средством достижения целей считает силу и насилие.
Хотя насилие как ментальный феномен может проявляться во всех сферах общественной деятельности людей, его особенность у радикальных исламистских движений заключается в появлении специфического идейно-политического, социального и культурного сплава. Исламский фундаментализм может проявляться в интеллектуально-умозрительных формах и носить индивидуальный характер, оставаясь далеким от политики. Однако в арабском обществе в настоящее время преобладающим является именно общественно-политический, организационный фундаментализм. Это объясняется сочетанием старых культурных традиций и структурного кризиса современного арабского государства. Отражается это и в том обстоятельстве, что фундаментализм представляет собой течение, черты которого еще окончательно не сформировались. Иначе говоря, он пока не стал идейно-практическим направлением, обладающим четко выраженными признаками. Тем не менее, в нем присутствуют зачатки внутренней интеграции. Отсюда — «экспериментальный» характер поведения фундаменталистских движений, включая то, что касается «интеграции» насильственных методов на теоретическом и практическом уровнях. Это сложный феномен, многие черты которого можно увидеть на примере организации «Аль-Каида», который подробно рассмотрен в нашей диссертации. «Аль-Каида» соединяет психологию масс с менталитетом экстремизма. Неслучайно религиозно-политический дискурс фундаменталистских движений, и в частности «Аль-Каиды», является наиболее действенным. Этот парадокс связан с тем, как успешно она осуществляет названное сочетание в мятущемся и противоречивом мире, где еще не сформировалось (по крайне мере, в арабских странах) видение того, как соотносятся религиозное и светское, национальное и исламское.
Данный вывод, в свою очередь, предопределил необходимость анализа информационного дискурса «Аль-Каиды», позволяющего вскрыть механизм побуждения к насилию как к «законному праву»" и оптимальному средству достижения намеченных целей. В нашем исследовании показано, как «Аль-Каида» использует исламские религиозные и языковые традиции, ставя их на службу своим целям. Это позволяет ей влиять на индивидуумов, привлекать их на свою сторону. Для этого «Аль-Каида» акцентирует внимание на негативных социальных, политических и культурных явлениях, подкрепляя это цитатами из Корана и хадисов, благодаря чему ей удается воздействовать на чувства множества мусульман, недовольных, в первую очередь, своими политическими режимами, а во вторую — теми международными силами, которые поддерживали или поддерживают эти режимы. В то же время этот дискурс сосредоточивается на идее «единства чаяний и действий" — он сочетает простоту, непосредственность, неоднократные указания на очевидные факты с твердой уверенностью в том, что цели, якобы сформулированные в Коране, будут рано или поздно достигнуты.
Вместе с тем надо отметить, что прямое и косвенное влияние фундаменталистских движений, их способность доходить до умов и сердец представителей различных общественных слоев, в том числе побуждая их к восприятию идеи насилия, суть не что иное, как оборотная сторона всеобъемлющего упадка, переживаемого современным арабским государством, а также упадка исламского фундаментализма как такового. В тупике оказались как светский национальный радикализм, так и традиционалистские режимы, обнаружившие полную неспособность изыскать разумную и приемлемую для большинства модель модернизации и всестороннего развития.
Состояние тотального упадка и структурного кризиса государства стало крупнейшей предпосылкой социально-политического кризиса и ухудшения экономического положения населения. Именно с этим в первую очередь связано сохранение феномена насилия. Этот феномен представляет собой объективное и четкое отражение того структурного кризиса, который поразил общество, государство и культуру.
Что касается причин, побуждающих фундаменталистские движения к «легализации» насилия и помогающих им привлекать на свою сторону аудиторию, то они были выявлены и подтверждены путем исследования взаимозависимости между распространенностью насилия и усилением радикальных течений исламского фундаментализма, с одной стороны, и такими показателями, как уровни социально-экономического развития, национальная интеграция и материальное положение населения современных арабских государств — с другой.
Были выведены коэффициенты корреляции путем статистического обследования 1400 произвольных выборок в семи арабских странах — Сирии, Ираке, Иордании, Палестине, Йемене, Египте и Алжире, по 200 в каждой стране. Важнейшие результаты этого обследования сводятся к следующему: одна из коренных причин усиления фундаменталистского экстремизма в различных его формах (политического, религиозного, социального и идеологического) в современных арабских государствах заключается в отсутствии рациональной и демократической системы политической интеграции общества, т. е. того, что можно назвать естественной и мирной политической жизнью. Результатом этого является люмпенизация многих социальных слоев, а вследствие этого — возникновение опасных общественно-политических явлений, наиболее заметным из которых является феномен насилия с его различными формами и уровнями, в особенности насилия социального и политического;
— осознавая значение отсутствия внутренней национальной интеграции, кризиса политической системы, нелегитимности правящих в современных арабских государствах режимов, неудовлетворительного материального положения населения, исламские фундаменталистские движения сумели использовать все эти обстоятельства для усиления своего влияния, упрочения своих позиций в обществе, особенно среди бедных и средних слоев;
— главным стимулом возникновения феномена насилия в современном арабском государстве являются экономические причины и социальные факторы. Это подтверждается тем, что показатели насилия коррелируют с показателями социально-экономического развития и распределения национального богатства. Так, экономический регресс ведет к опасному размежеванию в обществе, а это размежевание, в свою очередь, приводит к возникновению феномена насилия в социальном поле;
— существует тесная зависимость между усугублением социально-экономического и политического кризиса и приятием различными общественными слоями идеи насилия в ее фундаменталистской трактовке. Как показало статистическое обследование, число насильственных актов в государствах, где существует плохая политическая и социальная ситуация (например, в Ираке, Алжире и Йемене), значительно превышает их количество в тех странах, где положение лучше и стабильнее (в частности, в Иордании и Сирии);
— насилие используется для достижения быстрых результатов и осуществления конкретных целей, выдвигаемых исламскими фундаменталистскими движениями, способствует расширению их влияния на массы, особенно когда его легитимность подкрепляется религиозными текстами и ведется речь о праве граждан на защиту от «прогнивших» режимов и поддерживающих их внешних врагов. Благодаря этому насилие органично вошло в идеологию и практику современных исламских фундаменталистских движений;
— сохранение или уменьшение действенности насилия у современных фундаменталистских движений в значительной степени будет зависеть от того, удастся ли выстроить рациональную и легитимную альтернативу существующему государству, политической системе и общественным отношениям. Если такая альтернатива не будет воплощена в жизнь, то негативные социальные, политические и экономические факторы будут действовать в направлении разрушения общественного и индивидуального сознания, а следовательно будут использоваться приверженцами религиозного радикализма как наиболее близкого к настроениям массрелигиозно-политический (исламистский) фундаментализм представляет собой часть общих радикалистских традиций. Чтобы отделить его от его религиозных корней, необходимо рационально разрешить проблему соотношения модернизации и традиций. Это единственный путь к тому, чтобы заложить основы устойчивого развития и стабильности, а следовательно устранить предпосылки к воспроизводству традиционализма. В этом случае политические фундаменталистские движения смогут легально действовать в рамках политической системы. Они придут к признанию социальных параметров политической идеи, а значит и к признанию принципа мирной передачи власти. В этом заключается непременное условие преодоления традиций политического насилия, а следовательно снижения его прямого или косвенного влияния на активизацию насилия социального.
Список литературы
- Авдеев Ю.И. Типология терроризма // Современный терроризм: состояние и перспективы. Российская Академия наук, институт социологии, центр конфлитологии. -М., 2000. С. 59−65.
- Алексеев, И. Собирание расколотой уммы: фундаментализм как реинтерпретация исламской истории // Ab imperio. Казань, 2004. — № 3. -С. 491−516.
- Ахмедов В.М. Арабский национализм и исламский радикализм на Арабском Востоке. Перспективы и пределы сотрудничества в свете новых геополитических реалий в регионе // Ислам и общественное развитие в начале XXI века. М., 2005. — С. 245−259.
- Барковская, Е. Арабский Восток: подходы к проблеме «исламского терроризма» // Азия и Африка сегодня. М., 2003. — № 8. — С. 11−13.
- Беговатов, А.И. Международный терроризм в прошлом и настоящем // Актуальные проблемы современной политической науки. СПб., 2002. -Вып. 2. — С. 62−68
- Бельков О.А. Терроризм вызов национальной и международной безопасности. //Безопасность Евразии. 2001. № 4, С. 217−239.
- Выборнов В.Я. Истоки терроризма. -М., Ин-т востоковедения РАН Крафт+. 2003.
- Газданов М.Т. Экстремизм в исламе: история и современность // Бюл. Владикавказ, ин-та упр. Владикавказ, 2006. — № 18. — С. 120−129.
- Глущенко, Ю.Н. Исламский фактор во внешней политике США: трагедия 11 сентября как бумеранг «холодной войны» // Проблемы внешней и оборонной политики России. М., 2002. — N 10. — С. 5−50
- Ю.Гричук С. В. Терроризм: история и современность. Киев. 2000. С.49−65.
- Долгов Б.В. Демократия и исламизм в Египте // Ближний Восток и современность. М., 2007. — Вып. 31. — С. 15−29.
- Другов А.Ю. Вопросы генезиса и динамики исламского экстремизма и терроризма на примере Индонезии. М., 2003. 131 с.
- Емельянов В.П. Терроризм как деяние и состав преступления. Харьков: Право, 1999 192 с.
- Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования. Уголовно-правовое исследование. М.: NOTA BENE, 2000 — 236 с.
- Ермаков И. Политический экстремизм и религия. //Власть. 2001. № 12. -60 с.
- Ермаков С.М. Понятийные аспекты терроризма. М., Юнити. 2003- 128 с.
- Жилкин М.Н. История и терроризм. Спб., Инфра-М., 1999. -С. 44−58.
- Ильинский, И. О терроре и терроризме : (Природа, сущность, причины, проявления) // Безопасность. М., 2001. — N 7−12. — С. 312−342
- Каверин Б. Терроризм и война: общее и различия //Власть. 2002. № 5.
- Калашников М. Крупное Ю. «Международный терроризм» или манипуляция по-американски. М., Сварог и К. 2005. 67 с.
- Карамян, С. Исламский фундаментализм: теория и практика // Власть. -М., 2007. № 4. с .82−86.
- Кива А.В., Федоров В. А. Анатомия терроризма. //Общественные науки и современность. 2003. № 1. С. 131−136.
- Кожушко Е.П. Современный терроризм: Анализ основных направлений. -Минск. Харвест. 2000. С. 124−135
- Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. -М., Наука, 1999.-253 с.
- Краснов П. И. Терроризм: прошлое и настоящее. -М., Книга. 2000. С. 8996.
- Кривохижа, В.И. Современный мир и международный терроризм в условиях глобализации // Дипломатический ежегодник. М., 2003. — 2002. — С. 29−60.
- Крысенко, Г. С. Характерные особенности международного терроризма на современном этапе // Социокультурные конфликты и процессы в современном информационном обществе. М., 2002. — Ч. 2. — С. 120−129.
- Куприн А.И. Общие факторы образования и развития исламизма в странах Магриба в 70−90-х годах XX века // Ближний Восток и современность. -М., 2004. Вып. 22. — С. 49−68.
- Лазутин, JI.A. К вопросу о понятии и формах проявления международного терроризма // Рос. юрид. журн. Екатеринбург, 2000. — № 2. — С. 54−66.
- Ланда Р.Г. Политическая культура и насилие в мире ислама // Ближний Восток и современность. М., 2004. — Вып. 23. — С 3−12.
- Ланда Р.Г. Истоки и тенденции развития исламского терроризма // Ближний Восток и современность. М., 2003. — Вып. 17. — С. 23−34.
- Медведко Л.И. Международный терроризм — составляющая антиглобалистского движения. -М., Крафт +. 2003. 53 с.
- Мелвин, Н.Дж. Ислам, конфликты и терроризм // Ежегодник СИПРИ: Вооружение, разоружение и междунар. безопасность. М., 2007. — С. 138 156.
- Мирский, Г. Исламский фундаментализм, сунниты и шииты // Мировая экономика и междунар. отношения. М., 2008. — № 9. — С. 3−15.
- Мирский Г. И. Международный терроризм, исламизм и палестинская проблема: Сб. Ст. / РАН. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М., 2003. — с. 103.
- Мирский Г. Политика и терроризм. М., Принт. 2000.- С.134−160.
- Ниуитаев, В.В. Тело террора : К проблеме теории терроризма // Полигнозис. М., 2003. — N 3. — С. 63−76.
- Новая философская энциклопедия, изд. Мысль, Москва 2001.
- Носенко В. Борьба с международным терроризмом и мусульманский мир //Мировая экономика и междунар. отношения. М., 2007. -№ 3. С. 29−36.
- Политологя, Энциклопедический словарь, изд. Publishers, Москва, 1993.
- Почта Ю. М. Фундаментализм угроза или спасение? В //кн. Социальное: истоки, структурные профили, современные вызовы. -М. РОССПЭН. 2009. (в соавт. с Мальковской И.А.) С.360−377.
- Салимов, К.Н. Современные проблемы терроризма. М.: Щит-М, 2000. -215 с.
- Сейранян, Ф.Г.- Лаврин, М.А. Терроризм: история, эволюция и новые реалии // Армагеддон. М., 2001. — Кн. 9. — С. 161−186.
- Семенова, О.А. Исламский фундаментализм как течение политической мысли: генезис, идеи, этапы и тенденции развития // Вести, моек, ун-та. Сер. 12, Полит, науки. М., 2007. — № 1. — С. 61−68.
- Социологический энциклопедический словарь, изд. норма-инфра Москва 2000.
- Сюкияйнен, Л. Ислам против ислама: Об исламской альтернативе экстремизму и терроризму // Центр. Азия и Кавказ. Lulea, 2002. — № 3. — С 86−97.
- Терроризм и религия / РАН. Обществ. -Консультатив. совет по пробл борьбы с междунар. терроризмом.- М., Наука, 2005. 199 с.
- Философский энциклопедический словарь, изд. Советская энциклопедия. Москва, 1989.
- Хохлов, И. «Глобальный джихад Салафи» и «аль- Каида» //' Мировая экономика и междунар. отношения. М., 2007. — № 3. — С. 37−46.
- Чудинов, С.И. Терроризм как социокультурный феномен: социально-философский анализ / Новосиб. гос. архит.-строит. ун-т. Новосибирск, 2007.-С. 191−204.
- Amartya Sen: Identity And Violence: The Illusion Of Destiny, Penguin Group (UK), 2006.
- Anarchism: The Dictionary of The History of Ideas, The Electronic Text Center, University of Virginia Library, 2003.
- Barry Cooper: New Political Religions, Or, an Analysis of Modern Terrorism, University of Missouri Press, 2004.
- Barry M. Rubin: Islamic fundamentalism in Egyptian politics, International Journal of Middle East, New York, 2002.
- Bertrand Badie: Les deux Etats, Maison etudes universitaires, Paris, 1998.
- Brian Goldstone: Violence and the Profane: Islamism, Liberal Democracy, and the Limits of Secular Discipline, Anthropological Quarterly, 2007.
- Bruce B. Lawrence: Shattering the Myth: Islam beyond Violence, Princeton, Princeton University Press, 2000.
- Burrell. R. M. Islamic Fundamentalism, Nol, 1989
- Charles Rivera and Kenneth Switzer: Violence, New Jersey, Hayden Book Company, 1976.
- Crenshaw M. Terrorism, Legitimacy, and Power. Middletown. 1983.6 l.C. T. Ontons, The Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford Clarendon Press, 1966.
- David Zeidan. The Resurgence of Religion: A Comparative Study of Selected Themes in Christian and Islamic Fundamentalist Discourses, Brill, 2003.
- Don J. Feeney Jr: Creating Cultural Motifs against Terrorism: Empowering Acceptance of Our Uniqueness, Praeger, 2003.
- Edwad N. Muller: Income Inequality, Regime Repressiveness and Political Violence, American Sociological Review, vol, 50, no. 1, February 1985.
- Edwin Robert Anderson Seligman and Alvin Johonson, eds Encyclopaedia of the Social Sciences, New York, Macmillan, 1935.
- Emest Gellner: Postmodernism, Reason and Religion, London, Routledge, 1992.
- Ernest Van Den Hagg: Political Violence and Civil Disobedience, New York, Harper Torch Book, 1972.
- Farouk Youssef Ahmed: Economic Deprivation and Political Instability with Comparative Study of Egypt and Iran, Cairo University, 1972.
- Fiske S. Stereotyping, prejudice, and discrimination at the seam between the centuries: evolution, culture, mind and brain//Eropean Journal of Psychology, 2000.
- Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism, Princeton University Press, 2004.
- Gertie Ter James J. Busuttil Haar. The Freedom to Do God’s Will: Religious Fundamentalism and Social Change, Routledge, 2002.
- Gerson, Mark. The Neoconservative Vision: From the Cold War to the Culture Wars. Lanham, Md. and London: Madison Books, 1997.
- Herbert Spencer: The Man versus the State, 1884, electronic copy for the original, Web Site: socserv.mcmaster.ca.
- James Barr: Fundamentalism, London, SCM Press, 1977.
- Jason Smith: The ideas of Herbert Spencer, 2001, Web Site: www. sociologists.20m.com.
- Javier Argomaniz: The EU and Counter-Terrorism: Politics, Polity and Policies after 9/11, New York, Hardback (Routledge), 2010.
- John Horgan, Kurt Braddock: Terrorism Studies, New York, Imprint: Routledge, 2010.
- Kaplan H, Sadock B: Synopsis of psychiatry, seventh ed., Williams and Wilkins, Middle East edition, Egypt, 1994.
- Leonard Weinberg, Ami Pedahzur. Religious Fundamentalism and Political Extremism, London. Publisher: Frank Cass, 2004.
- Levine R.A., Campbell D.T. Ethnocentrism: Theories of Conflict, Ethnic Attitudes and Group Behavior. N.Y.: Wiley, 1972.
- Lionel Kaplan: Studies in Fundamentalism, London, Mac Millan Press, 1987.
- Manus I. Midlarsky: Rulers and Ruled: Patterned Inequality and the Onset of Mass Political Violence, American Political Science Review, vol, 82, no 2, 1988.
- Marsden. G: Fundamentalism and American Culture, the shaping of twentieth century evangelicalism, 1890−1925, New York, Oxford University Press, 1980.
- Marcy E. Schwartz: Violence and Ethics, Austin: U of Texas, The Johns Hopkins University Press, 2003.
- Peter St. Jean: Islamic Culture, Renaissance Publishing House, London, 1996.
- Philip Babcok Gove, Webster’s Third New International Dictionary of the English Languge, 1967.
- Pierre-Joseph Proudhon: General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century, translated by John Beverly Robinson (London: Freedom Press, 1923.
- R. Anders Nilsson: Political Violence in Post-Conflict Societies: Remarginalisation, remobilisers and relationships, New York, Hardback (Routledge), December, 2010.
- Ralph W. Hood Jr., Peter C. Hill, W. Paul Williamson. The Psychology of Religious Fundamentalism, Guilford Press, 2005.
- Richard T. Antoun: Understanding fundamentalism: Christian, Islamic, and Jewish movements, Middle East Quarterly, New York, 2008.
- Russel Kirk: The Conservative Mind, Henry Regney Comp, 3ed, 1968.
- Schmid A.P. Political Terrorism: A Research Guide to Concepts, Theories.
- New Brunswick. 1995. 93. Samuel M. Katz. Jihad: Islamic Fundamentalist Terrorism, Lerner, 2004. 94. Stephen Vertigans: The Sociology of Terrorism: Peoples, Places and Processes,
- New York, Imprint: Routledge, 2010. 95. Sigmund Freud: Complete psychological works, part 21, London, 1961.
- Terrorism and International Order. By Lawrence Freedman. Middletown. 1991.
- W. Montogmery Watt: Islamic Fundamentalism and Modernity, London, Routledge. 1989.
- S. Wilson: Violence and Western Political Tradition, R. and E. Artzt, New York, 1970.
- А,<�а-ч jj t^JjAJ jjljlij liLal Ajibi -jSjj JJjaa! ij^UljS .}. tlJJj. S lilbi. t jLpjJ jUv .1 072 003 'угО1 ^ j-Й i
- AjAJ 3 fi’sД (4 Ja ibjAlaii liA Ли* .126
- AOWUJJIjkllJ ^U^uSVI AJK JililllJ JbbJai I^jxil J jjAp .1 522 003 so^i * 173 '"u^J* DjaM yr* ^ ja." :.153
- UN Plaza, s^i^llAiл '2004 ^ jjL^JI A^UiVI V^ll jjj2j .162
- New York, NY, USA. .UN Plaza, «'c^^l e^lJIVl ^Ujj2005 fbJl ^ j^L^Jl jjjSj .163
- New York, NY, USA. .UN Plaza, New 'UNDPV1 s31 ^^ '2009 fbJ jjjS .1641. York, NY, USA.2004 /10/ 11 ^ jVl t"ysj5 (jl сЫ1 u^i j» JJ^ .165 -(JjVl
- Ибрагимов Радий Назибович. Проблема социального насилия как фактор исторического процесса: Дис.. д-ра филос. наук: 09.00.11: Абакан, 2003 342 с. РГБ ОД, 71:04−9/74
- Мельников Владимир Юрьевич. Военное насилие в региональных и локальных конфликтах современности: Дис.. канд. полит, наук: 23.00.02: Москва, 2005 171 с. РГБ ОД, 61:05−23/127-
- Шевченко Оксана Вадимовна. Феномен насилия в международно-политических конфликтах современности: Дис.. канд. полит, наук: 23.00.04: Москва, 2004 157 с. РГБ ОД, 61:04−23/190-
- Сытых Елена Львовна. Роль и значение насилия в культуре: Дис.. канд. культурологических наук: 24.00.01: Челябинск, 2003 172 с. РГБ ОД, 61:04−24/60
- Ахтаев Абдула Мовлыдыевич. Культурная легитимация политического насилия в процессах глобализации: Дис.. канд. социол. наук: 22.00.06: Ростов н/Д, 2004 126 с. РГБ ОД, 61:05−22/184-
- Королев Сергей Владимирович. Согласие и насилие в политике современного миротворчества: Дис.. канд. полит, наук: 23.00.04 Москва, 2006 164 с. РГБ ОД, 61:06−23/206-
- Китаев Николай Иванович. Социальное насилие в современном классовом противоборстве: ил РГБ ОД 71:85−9/66 —
- Мочалин Николай Дмитриевич. Эскалация террористического насилия в мире в эпоху глобализации: истоки, факторы, тенденции: истоки, факторы, тенденции: Дис. канд. полит, наук: 23.00.04 Москва, 2006 166 с. РГБ ОД, 61:06−23/359-