Диалектика норм и ценностей в художественном мире А. Н. Островского, 1840-1850-е гг
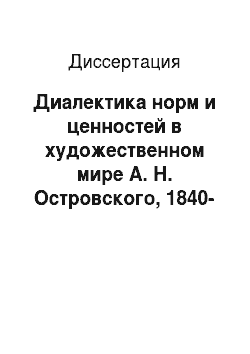
В чем тут собственно «проблематичность»? Она в том, что мера научной объективности в определении какой-либо соразмерности заслуг отдельных деятелей культуры остается под вопросом. И чем дальше идет изучение литературного наследия во всем богатстве его идейных и художественных нюансов, чем более ширится диапазон непредвзятого заинтересованного внимания к литературным памятникам, — тем меньше… Читать ещё >
Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА II. ЕРВАЯ: Нормированное измерение действительности в первых пьесах Островского
- ГЛАВА ВТОРАЯ. «Доходное место» в контексте аксиологических исканий Островского
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ. «Гроза» — ключевой этап аксиологических к исканий Островского и средоточие творческого опыта
Диалектика норм и ценностей в художественном мире А. Н. Островского, 1840-1850-е гг (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В широком спектре всех возможных направлений исследования литературных явлений есть два генеральных направления, порожденных интересом к своеобразию либо художественного содержания, либо формы. В соответствие с этим и судьбы памятников нашей классической литературы в историко-функциональном освещении выглядят по-разному.
Кто-то из писателей поражал уже своих современников смелостью и свежестью взгляда на жизнь, открывая в ней новые, незатронутые еще литературой слои, характеры, конфликты. Это содержательное новаторство, как правило, влекло за собой и стилевые открытия, стимулировало процессы развития художественной формы, литературного метода в целом. Ярким примером здесь могут служить исторические заслуги натуральной школы. Другой пример — творчество зрелого Тургенева. В его романах по-прежнему (как и в «Записках охотника») поражала новизна содержания, но уже не за счет открытия и необычного освещения «наличной» действительности, а благодаря редкому дару быть на гребне общественных перемен, предугадывать и изображать как бы рождение будущего — новых типов, проблем, идеалов.
Примеры другого рода воздействия на публику и критику дают нам произведения Гончарова, Л. Толстого, Чехова. Безусловная новизна жизненного материала, содержательное богатство были в первоначальном восприятии как бы заслонены стилевым и методологическим новаторством этих авторов. Это не значит, конечно, что здесь художественная форма была более значима, чем содержание. Но интерес читающей публики, критики и в какой-то мере даже академической науки распределялся поначалу именно так — от формы к содержанию.
История научного изучения творчества русских классиков подтверждает наличие этих закономерностей /см., напр. — 36/. Наиболее злободневные для своего времени произведения были позднее и в науке рассмотрены сначала с точки зрения их содержательного своеобразия и лишь затем — с точки зрения поэтики. Это касается, например, уже упомянутых романов Тургенева, а также произведений Достоевского, Салтыкова-Щедрина и др. В литературных шедеврах иного рода, подчеркнуто самобытных в стилевом отношении, напротив, уже первые проницательные критики раскрыли новаторство их поэтики и лишь позднее — скрытые подтексты содержания. В качестве примеров укажем на статьи Белинского и Добролюбова о романах Гончарова, статью Чернышевского о ранних произведениях Толстого.
На первый взгляд, всех равняет время, и сегодня творчество каждого из русских классиков исследовано «вдоль и поперек» — как в свете содержания, так и в аспекте формы. Однако пресловутая «неисчерпаемость смысла» — это не пустые слова, а реальное свойство подлинно художественной литературы. Из этого неиссякающего родника и питается литературоведение. Только вот свойство это в разных художественных мирах и сказывается по-разному, так что неисчерпаемость смысла творчества большого художника тоже в известном смысле самобытна, хотя не всегда очевидна.
Сказанное имеет прямое отношение к творчеству великого драматурга А. Н. Островского и к истории изучения его наследия. Все достоинства этого наследия казались изначально очевидными. Так, например, с точки зрения содержания в пьесах Островского «раскрылась целая полоса русской жизни, целый мир новых отношений «темного царства» «. Уже в первой комедии, с которой он вошел в большую литературу, «намечены основные черты купеческого быта, как его понимал и изображал Островский и в последующих произведениях.
Различие было только в оттенках и разнообразии жизненных положений, но основные черты — всюду те же" /10, с. 428,430/.
Эти строки взяты из дореволюционного академического труда (обладающего многими собственными просветительскими и научными достоинствами), и они не только подытоживают десятилетия изучения наследия Островского, но задают тон и смысл его оценок более чем на полвека вперед, вплоть до нашего времени. Обратимся, например, к современной и во многом очень содержательной книге об Островском. В качестве одной из исходных установок в ней находим: «Внутри мира Островского идет своя борьба и движение. Это живой мир, а не закостенелая мумия. Но самый мир и мировоззрение Островского предстают эпически выверенными и целостными практически с самого начала. Всё ложится на единый лад, образует общий художественный канон. Цельность мировоззрения выверяется и подтверждается цельностью художественного метода» /45, с.6/. Как видим, отдавая дань величию классика, авторы сделали оговорку («Это живой мир, а не закостенелая мумия.»). Но она ведь не меняет сути общей «мумифицирующей» оценки, которая исключает возможность видеть в Островском исследователя жизни, а не всезнающего ее бытописателя. И мир драматурга — уже в свете художественной формы — лишен в приведенной оценке динамики становления. Всё остается в рамках «общего художественного канона» .
Этот пресловутый «канон» сдерживает, конечно, вовсе не вечно живое содержание пьес Островского, а скорее, инициативу исследователей. Не случайна эта замеченная нами перекличка академического труда 1911 года и работы года 1986;го. Обратимся к показательному для состояния науки пособию — «Семинарию» по Островскому Г. П. Пирогова (1962 г.- первый опыт такого рода предпринял Н.К.Пи-ксанов в 1923 г.). Представленная в нем библиография, охватывающая более чем вековой период (с 1847 по 1960 гг.), дает ясную картину основных тематических направлений, по которым шла критическая и научная «инвентаризация» наследия Островского /75, с. 66 127/. На сегодня она в целом, безусловно, закончена. Об этом свидетельствует и тот факт, что наиболее заметные книги последнего времени об Островском (В.Лакшина и М. Лобанова) вышли в популярных сериях, носят просветительский характер и имеют научный интерес благодаря не исследовательскому пафосу, а новым фактографическим разысканиям /см., напр. — 53/.
На фоне общепризнанного хрестоматийного глянца выделяются нечастые исследовательские проникновения в сам «мир Островского» /см. 31, 32/, и они-то как раз свидетельствуют, что «пьесы жизни» (по определению Добролюбова) по прежнему живы, и смысл их действительно неисчерпаем. Но отдельные эти проникновения общей как бы усыпляющей тенденции в восприятии творчества Островского все-таки не компенсируют. Именно ее имел в виду чуткий Г. В. Плеханов, когда писал о «странной участи» наследия великого драматурга и объяснял эту участь тем, что критика не умеет отнестись к художественным открытиям Островского с непредвзятым доверием и интересом /19, т.1, с. 530−531/.
Ретроспективу мнений можно отодвинуть еще дальше и уже рядом с самим Островским найти критика, который видел и объяснял теоретическую близорукость «ценителей» драматурга задолго до Плеханова. Аполлона Григорьева споры вокруг «Грозы» навели на такие размышления: «.Эти теории, как бы умны они ни были, из каких бы законных точек ни отправлялись, в художественном произведении следят, да и могут следить только ТУ жизнь, которую видят с известных точек, а не ту, которая в нем /./ просвечивает со всем своим многообъемлющим и в отношении к теориям часто ироническим смыслом» /15. с.233/.
А что же сам Ап. Григорьев, в чем выражалась его непредвзятость по отношению к Островскому? Что он имел в виду под «великими откровениями» драматурга? Стоит внимательно присмотреться к его конкретным характеристикам. Он, например, замечает: «» Бедность не порок" - не сатира на самодурство Гордея Карпыча, а опять-таки, как «Свои люди сочтемся» и «Бедная невеста», поэтическое изображение целого мира С ВЕСЬМА РАЗНООБРАЗНЫМИ НАЧАЛАМИ И ПРУЖИНАМИ". Первые пьесы Островского «изменили во многих взгляд на русский быт, познакомили нас с типами /./, с отношениями, в высшей степени новыми и драматическими, С МНОГОРАЗЛИЧНЫМИ СТОРОНАМИ РУССКОЙ ДУШИ, и глубокими, и трогательными, и нежными, и разгульными сторонами, ДО КОТОРЫХ НИКТО ЕЩЕ НЕ КАСАЛСЯ» (Курсив мой — Т. В.) /15, с. 242,254/.
В науке в связи с этими и подобными характеристиками открытий Островского общим местом долгое время были (и до сих пор имеют место) снисходительные пояснения: будто бы так в «москвитянс-кий период» выражали единомышленники драматурга свою солидарность с его увлечением национально-патриархальными идеалами. Однако тем самым происходит искусственная нивелировка, во-первых, многообразия жизненных отношений — бытовых, душевных и пр., — вскрытых Островским (на многообразие это указывал и Григорьев), под однозначно понятый патриархальный уклад. В связи с этим и разнообразие характеров в его пьесах нередко подвёрстывается под жесткие несложные типологические схемы, в которых фигурируют противники «уклада» и его защитники, «самодуры» и их «жертвы». Во-вторых, выраженная в пьесах сочувственная заинтересованность автора в любых жизненных перипетиях его героев принимается за апологетику их душевной жизни, за любовную реконструкцию некоей патриархальной морали.
Островский лучше своих поздних интерпретаторов знал современную ему Россию, в которой «моральные ценности, создаваемые народной историей, и повседневный быт выступали /./ в сложнейших переплетениях» /30, с.105/. Упрощать эти сложности, подлаживаться под какие-либо расхожие представления или программы («обличительные», «славянофильские» и пр.) было не в его интересах и не в его характере. Он с гордостью причислял себя лишь к «школе Пушкина». «Что это за школа, что он дал своим последователям? — прозвучало в выступлении Островского на Пушкинском празднике. — Он завещал им искренность, самобытность, он завещал каждому быть самим собой, он дал всякой оригинальности смелость, дал смелость русскому писателю быть русским. Ведь это только легко сказать! Ведь это значит, что он, Пушкин, раскрыл русскую душу. // Теперь нам остается только /./ пожелать русскому уму поболее развития и простораа путь, по которому идти талантам, указан нашим великим поэтом» /1, т.10, с. 152. — Далее это издание цитируется в тексте с указанием тома и страницы/. С таким пониманием значения и уроков Пушкина Островский должен был и мог продолжить его дело, пойти указанным путем. На этом пути он именно мог открыть — как это сказано у Григорьева — «в высшей степени новые отношения» и «многоразличные стороны русской души /./, до которых никто еще не касался» .
Научное освоение наследия Островского — даже в виде прямого понимания и учета всего того, что он разглядел в русской жизни и в русском характере, — далеко не завершено. Сегодня новые обращения к его творчеству особенно актуальны. Общественные перемены привели к утверждению приоритета общечеловеческих ценностей, и это позволяет вступить с Островским в естественные отношения — в отношения благодарных наследников и учеников, а не ревизоров.
Ведь «признание приоритета общечеловеческих ценностей еще не проясняет того, что же такое «общечеловеческие ценности» «/84, с. 6/, — так не поискать ли у Островского ответа, например, и на этот вопрос?
Новые исследовательские попытки проследить тот путь, которым шел великий драматург в своем открытии и освоении русской жизни, могут оказаться во многом поучительны, поскольку наши эпохи родственны в самой динамике общественных перемен. Конкретные процессы современности — например, социальное расслоение нашего общества, возрождение некоего подобия купеческого класса, актуализация проблем частной собственности и пр. — порождают особую заинтересованность в художественном опыте Островского и заставляют многое в нашем понимании его образов и сюжетов откорректировать.
Научный характер исследования предполагает упорядочение подхода к отбору и осмыслению материала, так как «нельзя объять необъятное». В нашем случае содержание пьес Островского — само по себе актуализированное временем — способно подсказать и актуальный в научном отношении аспект рассмотрения. Таковым является АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ аспект.
Аксиология, или «теория ценностей», по принятому в науке определению, — это «учение о природе ценностей, их месте в реальности и о структуре ценностного мира, т. е. о связи различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности» /12, с.731/. Далее у нас будет возможность убедиться в том, о чем сейчас приходит ся сказать декларативно: художественный мир Островского пронизан ценностными отношениями на всех уровнях. В каждом его произведении — от первых опытов до итоговых пьес — многое определяется столкновением, диалектическим соотношением жизненных ориентиров (т.е. всё тех же ценностей или норм. недотягивающих до статуса «ценности»). Нетрудно заметить, что аксиологически значимы у Островского даже многие названия его пьес — например, «Бедность не порок», «На всякого мудреца довольно простоты» и др. Это лишь внешние приметы тех ценностных коллизий, которые за названиями скрываются. Движущие конфликты в произведениях Островского так или иначе определяются отраженными в них жизненными процессами переоценки ценностей — утверждением одних, девальвацией других, подспудным созреванием третьих и т. д.
Если учесть, что любому укладу, среде (социальной или идеологической), даже целой эпохе свойственны определенные системы ценностей, то понятным становится важное значение аксиологических характеристик. Но и в меньших масштабах — на уровне характеров, типов, отдельных поступков — ценностные показатели остаются значимы. Ведь всякий человек (или герой литературного произведения) вольно или невольно руководствуется в своих взглядах и побуждениях жизненными ориентирами разного достоинства — ценностями истинными или мнимымивечными или преходящимиобщечеловеческими, классовыми или личными. Жизненные нормы, цели, пристрастия, идеалы — всё это в аксиологическом аспекте лишь разные ипостаси ценностных характеристик человека, общества, эпохи.
Что касается собственно литературы, то в ней, помимо отраженных жизненных ценностей, специфическую роль играют еще и ценности эстетические. Автор имеет свои представления об образцах и свои мерки художественности. Кроме того, в произведениях неизбежно сказываются личные авторские пристрастия и оценки поведения его героев. По наблюдениям М. М. Бахтина, формально-эстетическое единство произведения образуется благодаря тому, что «ценностный контекст» автора — познавательно-этический и эстетически-актуальный — как бы обнимает, включает в себя «ценностный контекст» героя — этический и жизненно-актуальный /см. 26, с.71−72/. Наконец, с аксиологической точки зрения может быть многое прояснено в том, почему в разные эпохи остывает или подогревается читательский интерес к наследию конкретного автора. Читатели ведь тоже остаются «в плену» своих подвижных ценностных ориентиров — они ищут в литературе актуальные для себя ценностные «контексты» .
Итак, аксиологический аспект исследования литературных явлений можно считать почти универсальным — он допускает углубленное рассмотрение как содержания, так и формы произведений, как авторской индивидуальности, так и тенденций читательского восприятия. Но аксиологические направления до недавнего времени оставались у нас в стороне от «столбовой дороги» научных исследованийкак в философии, так и в литературоведении. Объясняется это просто: банальная истина «о вкусах не спорят» имела превратное истолкование и стояла на страже исключительно марксистско-ленинских методологических «вкусов» в науке. Теперь положение изменилось, и аксиологический аспект приобретает обостренную актуальностьнужно наверстывать упущенное.
В области философских знаний своего рода прорыв осуществлен в труде Л. Н. Столовича — впервые в отечественной науке воссоздана история аксиологии от ее зарождения до середины нашего столетия (книга цитировалась выше, и к ее материалам нам еще предстоит не раз обращаться в дальнейшем).
В литературоведении аксиологические подходы продуктивно разрабатывал в свое время М. М. Бахтин, и его исследования, наконец, вошли с 80-х годов в широкий научный обиход после многолетнего умолчания. Одно из первых новейших исследований с открыто аксиологической проблематикой — докторская диссертация В.А. Свительско-го. Нам особенно близки его основные положения. Автор, например. справедливо утверждает: «Система ценностей, выражаемая в художественном мире, оценочные отношения, пронизывающие произведение, при их выявлении позволяют сказать о многом — ориентировать произведение, отдельного писателя, литературу целого периода в национальной и мировой культуре, назвать те духовные вехи и опоры, без которых невозможно полноценное развитие личности и общества» /80. с Л/. Однако ученый, соответственно масштабам своего исследования, ставит задачи многоаспектные. Его интересуют «конкретные оценочные отношения, развертывающиеся на страницах „Войны и мира“, „Преступления и наказания“, „Отцов и детей“, „Обломова“, „Анны Карениной“. „Братьев Карамазовых“, обусловившие и структуру характеров, и роли героев в рамках художественного универсума». При таком широчайшем охвате автор находит возможным сосредоточиться в каждом случае еще и на «шкале авторских оценок, которая находится в проблематическом соотношении с оценками персонажей и читателя» /80, с. 5,9/.
Обращаясь исключительно к творчеству Островского, мы имеем в виду постановку гораздо более скромных задач, которые в то же время позволят шире рассмотреть переплетение и взаиморегуляцию ценностных отношений в каждом из тех произведений, что попадут в поле нашего внимания. Мы не будем, в частности, пытаться реконструировать «шкалу авторских оценок», от которой будто бы зависят конкретные оценочные отношения героев. Последние достаточно сложны сами по себе и требуют всего того внимания, какое мы сможем им уделить. Мы обращаемся, таким образом, к жизненному и художественному содержанию и в то же время имеем все основания полагать, что самого Островского жизненный материал интересовал и заботил как раз больше, чем выработка собственной шкалы оценок. В то же время Островский, конечно, не был и нейтральным наблюдателем.
Абстрагироваться от его личной авторской позиции невозможно. Но формировалась она в ходе и в прямой зависимости от творческого познания реальных явлений — в том числе пестрых человеческих интересов, пристрастий, надежд и предрассудков. Ведь «предрассудок» — «он обломок давней правды» , — писал Е. Баратынский, и Островский явно разделял это глубокое мнение.
Прежде чем сформулировать конкретные задачи исследования, необходимо хотя бы в кратком обзоре аксиологических воззрений выяснить, в чем могут состоять сложности различения и понимания «ценностей», по каким признакам их можно дифференцировать. Иначе говоря, нужно хотя бы приблизительно определить, с чем мы будем иметь дело, обратившись к ценностно-многогранному миру Островского.
Ценности, их природа и значение, закономерности их соотношения и смены, попадали в центр внимания философов издавна, с античности. Но первую развернутую теорию ценностного суждения сумел разработать И. Кант, вписав ее во всеобъемлющую систему философского знания в качестве «Критики способности суждения». Вполне понятно, что особую роль понимание ценности играло в этических и эстетических взглядах и системах, но не только в них. Эта категория постепенно приобрела (особенно с XIX века) универсальное значение. Некоторые последователи Канта — И. Ф. Гербарт, Г. Лотцесклонны были разделять всю «философию на философию о мире сущего и философию о мире ценностей». Один из них (Г.Лотце) даже утверждал, что мир ценностей обладает не просто действительным существованием /./, но является «самым действительным из всего на свете» /цит.: 84, с. 123,125. Далее материалы этого издания цитируются в тексте с указанием страницы/. Это выглядит крайностью, «преувеличением от увлечения». Но надо же признать право на истину и за художниками слова. А мысль философа отразилась позднее (в 1914 г.) и в откровении О. Мандельштама:
Есть ценностей незыблемая скАла Над скучными ошибками веков" /66, с.96/.
Самые твердые убеждения в существовании ценностей не обеспечивали определенности их понимания и не снимали вопросов, на которые у разных мыслителей находились и разные, порой взаимоисключающие ответы. Причем даже четкий ответ на один вопрос не всегда прояснял все остальные, с ним связанные. Наиболее общие и принципиальные из этих вопросов сводятся к следующему.
Какова природа ценностей — только ли субъективны они, или существуют ценности объективные? Паскаль, например, признавал объективность ценностной среды как среды исключительно человеческого воображения, отрицая наличие какой бы то ни было определенной шкалы оценок: «Воображение распоряжается всем, что ценится в этом мире». Оно способно преувеличить «любой пустяк» и придать ему «невероятную цену». Ему по-своему вторил знаток тайных человеческих помыслов и пристрастий Ларошфуко. Будучи рационалистом, он тем не менее утверждал, что в моменты ценностных суждений «ум всегда в дураках у сердца» /с. 52,88/.
В русле подобных представлений оставался, при всем своем философском радикализме, Ф.Ницше. Он предлагал «усомниться в самой ценности» моральных ценностей, объявлял наступление эпохи тотальной «переоценки всех ценностей» и тем самым утверждал их абсолютный релятивизм /см. с.130−133/.
Своего рода логическое завершение эта традиция «внелогичной» аксиологии получает, на наш взгляд, у Н. А. Бердяева. Он был убежден в бытийно-объективном существовании ценностей, но признавал невозможность их рационалистического объяснения. Например, в «Философии свободы»: «О ценности ничего нельзя изрекать словами, не может быть учения о ценности, потому что ценность должна предшествовать суждению, не зависеть от суждения, а определять его» /28, с. 85/.
Иную традицию в трактовке ценностей питали суждения Кантаблагодаря тому, что он предполагал изначальную их дифференциацию: есть ценности истинные, которые служат мерой человечености и свободыно объективно существуют и ценности мнимые, иллюзорные. К последним Кант относил, например, представления людей, порождаемые честолюбием /51, с.240/.
Как уже было сказано, Кант дал мощный импульс развитию аксиологии — и сразу по нескольким направлениям. Такие неокантианцы, как Виндельбанд и Риккерт, подняли до степени глубокого философского анализа вопрос, возникший еще на заре Возрождения: «Как сочетать ценность для одного человека с ценностью для другого, ценность для человека и ценность для сообщества людей?» /с.44. Ср.: с.135/. В трудах этой школы получили освещение вопросы различения и соотношения «ценностей» и «норм», а также различных сфер культуры соответственно четырем видам ценностей («логические, эстетические, этические и религиозные»). Риккерт, кроме того, различал 6 областей ценности: логические (в сфере науки), эстетические (в искусстве), мистические, нравственные и социально-этические, личные и религиозные. Он же убедительно возразил на аксиологический релятивизм Ницше: «На человеческие оценки и отношения к ценностям, которых не нужно смешивать с самими ценностями, можно влиять. Можно, стало быть, добиться того, что одна ценность заменяет собой другую и ценится вместо нее. Сами ценности при этом не „переоцениваются“. Они остаются тем, что они есть. Ценности, как ценности, не могут меняться, только наше отношение к ним подвержено изменению» /с.139/.
Особый интерес и значение для нас имеет вклад русской мысли в историю аксиологии. Вклад этот выразился не столько в теоретической философии, сколько в том, что составило славу и мировое значение нашей культуры — в творчестве художников слова, которое получало свое осмысление в эстетической и философской критике. Здесь особую роль по праву отводят Достоевскому, который «в наибольшей степени выявил тенденцию к аксиологизации русской /. / мысли» /с.348/. В России 2-й половины XIX в. аксиологическая проблематика получила, в частности, актуализацию в проблеме отношения истины, добра и красоты, различные решения которой касались, в свою очередь, насущных вопросов художественного творчества и жизненной практики. Опираясь на опыт Достоевского, Вл. Соловьев настаивал на диалектическом единстве «аксиологической троицы» «в противовес тем концепциям, которые жертвовали красотой во имя истины и добра-справедливости (Писарев, а затем и теоретически Л. Толстой) или добро и истину приносили в жертву красоте (К.Леонтьев, Ницше)». Достоевский был прав, когда доказывал, что три эти ценности «живут только своим союзом. Добро, отделенное от истины и красоты, есть только неопределенное чувство, бессильный порыв, истина отвлеченная есть пустое слово, а красота без добра и истины есть кумир» /83, т.2, с.305/.
К концу XIX в. сложились представления о необходимости различать в понятии «ценность» три аспекта: характеристику внешних свойств вещей и явлений, выступающих как объект ценностного отношенияпсихологические качества субъекта этого отношенияотношения между людьми как субъектами, их общение, благодаря которому ценности обретают общезначимость. Второй из них (субъектное выражение ценностного отношения) применительно к искусству глубоко разработап в отечественной науке М. М. Бахтин. Причем он дал как теоретическое его осмысление, так и его продуктивную апробацию в литературоведческом анализе текстов (творчества Рабле, Достоевского, Гоголя) /см. — 25,27/. У Бахтина аксиологический подход развернулся в широком спектре таких понятий, как «ценностный центр» ," ценностный вес", «ценностный момент» ," ценностный смысл", «ценностный контекст» ," ценностная установка", «культурная ценность», «жизненные ценности», «предметные ценности» ценностное отношение" ," ценностное сознание", «ценностный кругозор», «ценностная ориентация», «ценностная иерархия» и некоторые другие.
Как уже сказано, дальнейшего развития аксиологический подход в отечественном литературоведении долгое время не получал, и лишь в наше время методологическая «эмансипация» позволяет вновь к нему обратиться.
На выбор темы для настоящего диссертационного исследования повлияли соображения все-таки не теоретико-методологические, а историко-литературные. Т. е. не творчество Островского является здесь лишь наиболее удобным материалом для изучения новых возможностей подхода, а напротив, — подход актуален для новой интерпретации произведений драматурга.
Творчество Островского охватывает большой и важнейший для русской культуры период — 1850−70-е годы. И сам драматург был не просто хроникером или бытописателем этой эпохи. Не менее Тургенева он был чуток к переменам, которые наступали или только еще зрели в русской действительности. Но если заслуженно популярный романист неизменно искал среди людей «героев времени» и в их судьбах обнажал приметы перемен, то у Островского чуть ли не каждый персонаж в этом отношении интересен и показателен. Очень верно заметил современный исследователь по поводу первой пьесы Островского: «Личность формируется, свой выбор утверждается тут в каждом уродливо, происходит всё это в самом непросветленном /. / виде. Однако совершается повсеместно в каждом» /30, с.105/. Т. е. исторические перемены у Островского идут как бы по всему фронту жизни, они совершаются в самих людях, «изнутри». Общественные сдвиги сказываются в изменении людских пристрастий, вкусов, настроений, характеров. Поэтому Островский как художник и очевидец той эпохи был ближе Л. Толстому, чем Герцену или Тургеневу. В этом можно видеть и высшую степень демократизма: Островскому (как и Г. Успенскому, Толстому, Достоевскому, Чехову) интересен и важен прежде всего сам человек, а потом уже его социальные показатели. Вот почему художественные свидетельства Островского о жизни и людях особенно достоверны в любую эпоху — людей он изучает и показывает такими, какие они есть, и лишь затем такими, какими их делают обстоятельства. Своеобразие, «натуральность» человека у него всегда на первом плане, типичность — на втором.
На эту особенность художественной позиции Островского впервые обратил внимание еще Добролюбов в статье «Темное царство»: «Островский умеет заглядывать в глубь души человека, умеет отличать НАТУРУ от всех извне принятых уродств и наростов». Самому-то критику как раз близки были задачи обличения «уродств и наростов», но ему хватило проницательности вывести из опыта Островского урок: «.Нужно для естественности жертвовать /./ отвлеченной логичностью, в полной уверенности, что жизнь, как и природа, имеет свою логику и что эта логика, может быть, окажется гораздо лучше той, какую мы ей часто навязываем. «/16, т. 2, с. 30, 28/.
Сегодня тем более необходимо внимание к той жизненной логике характеров и отношений, которую открывал Островский — художник на редкость внимательный и чуткий. Необходимо целенаправленное изучение его художественной антропологии, подобно тому, как изучают уже плодотворно творчество, например, Достоевского и Толстого /см., напр. — 42,43/. Тогда, думается, можно будет пересмотреть значение его художественных открытий, которые до сих пор остаются как бы в тени общепризнанных вершин русской психологической прозы.
Речь не о том, что нарушена какая-то иерархия культурных ценностей или заслуг. Открытий того же Достоевского, например, Островский не повторял и не превосходил. Речь о досадных упущениях во внимании к общему культурному наследию. Ведь Островский, в свою очередь, видел и воплощал в своих пьесах нечто такое, до чего не касались наши великие прозаики-духовидцы. И к его творчеству в полной мере применима такая обобщающая характеристика: «Перестройка системы ценностей в обществе, испытание привычных и указание новых ориентиров поведения, повышенный уровень требований к нравственности современников в условиях распада и колебаний, стремление к гуманистическим решениям в интересах личностивсё это определяет смысл и строение психологической прозы, выражая спор о возможностях человека и сущности жизни» /80/.
Тема настоящей работы — «Диалектика норм и ценностей в художественном мире Островского». Живое многообразие целей, вкусов, пристрастий, идеалов и других показателей сознания и поведения героев Островского можно лишь условно подвести под эти два понятия -" нормы" и «ценности». Точно так же и прихотливые их соотношения не совсем точно обозначены здесь понятием «диалектика». Однако указанная тема — не являясь итоговой закрепляющей формулой — предполагает сосредоточенность на обширном и действительно проблемном материале, изначально упорядочивая его рассмотрение.
В центр внимания мы ставим ПРОБЛЕМУ СООТНОШЕНИЯ НОРМ И ЦЕН.
НОСТЕЙ в художественном мире Островского. Ее очерчивает круг вопросов, с которыми прямо связаны задачи исследования. Как именно и насколько прочно связаны в изображении драматурга нормы и ценности, которыми руководствуются его герои? При каких условиях эти ориентиры могут выводиться друг из друга, или напротив — быть изолированными? Соблюдается ли их естественная иерархия (по восходящей: нормы — ценности — идеалынормы и ценности личные — социальные — общечеловеческие)? При каких условиях и по каким причинам нормы и ценности оказываются во взаимоисключающих отношениях? В частности, когда ценности предстают в виде разрушения привычных норм? Каковы закономерности противопоставления «своих» и «чужих» норм и ценностей (в разных социальных слоях, в разных поколениях)?
Рассмотреть отдельные этапы творческой эволюции Островского в свете этих и ряда иных вопросов, найти ответы на них со всей возможной мерой достоверности — составляет задачи исследования.
Охват материала ограничен возможностями работы — было бы не-безыинтересно последовательно рассмотреть под принятым углом зрения все произведения Островского, однако такой труд составил бы несколько томов. Наше исследование носит предварительный характер, и потому для его задач будет естественным сосредоточить внимание на начальных этапах творческой эволюции писателя и на ключевых в указанном отношении произведениях.
Так, принципиально важным представляется рассмотреть первые драматические опыты Островского, чтобы выяснить: в чем состояла и насколько изначально характерна была аксиологическая содержательность для его художественного дарования и творческого пафоса?
Затем целесообразным будет сосредоточиться на отдельных пьесах, проблематика которых намечает сквозные линии исканий драматурга. В центр внимания мы ставим «Доходное место» и «Грозу», в то же время не теряя перспектив последующей творческой эволюции Островского. Это позволит прояснить, какова была аксиологическая насыщенность и направленность исканий драматурга, насколько акси-ологически обеспечены его художественные открытия. В итоге мы надеемся выявить аксиологическое измерение его творческих достижений и уточнить представления о значении личного вклада Островского в развитие русской классики.
Таким образом, в ходе исследования намечаются три основных этапа, что позволяет распределить материал соответственно по трем главам.
— 177-ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В ходе нашего исследования выявились основания и созрела необходимость сказать хотя бы коротко об одной чрезвычайно сложной проблеме историко-литературного изучения русской классики XIX века. Эта проблема сложна уже потому, что — в зависимости от аспектов ее осмысления — она может принимать разный вид и соответственно по-разному может быть сформулирована. (Примеры можно найти у Н. Я. Берковского /29/, Д. С. Лихачева /58/ и др.) Для нас сейчас она актуализируется в следующем виде: это проблема методологической аксиологии в оценочных подходах к русской классике. Можно сказать иначе: имеется в виду проблема субъективно-объективного восприятия иерархии творческих вкладов ведущих писателей в развитие русской культуры прошлого столетия.
В чем тут собственно «проблематичность»? Она в том, что мера научной объективности в определении какой-либо соразмерности заслуг отдельных деятелей культуры остается под вопросом. И чем дальше идет изучение литературного наследия во всем богатстве его идейных и художественных нюансов, чем более ширится диапазон непредвзятого заинтересованного внимания к литературным памятникам, — тем меньше остается обманчиво четких критериев для определения статуса того или иного классика в истории литературы. А между тем какая-то «мера» в этом вопросе возможна и реально ощутима, как несомненна сама «соразмерность» творческих итогов разных писателей. Нивелировать по значению индивидуальные вклады художников слова так же недопустимо, как и жестко дифференцировать их з свете предвзятых критериев (например, идеологических). Каким-то образом мы непосредственно — прежде любых аналитических сопоставительных изысканий — ЗНАЕМ, что для нас больше сделали, больше значат, больше участвуют в современной идейной жизни одни мыслители и художники слова (в частности, Достоевский, Толстой, Чехов). И в их тени неизбежно «линяют» реальные заслуги других (например, Гончарова, Лескова, Островского). Акцентированное изучение творческих исканий писателей как «первого», так и «второго ряда» направлены по большей части именно на то, чтобы отдать себе более ясный отчет в изначально неясных и самостоятельных «впечатлениях». Мы ЗНАЕМ, кто из классиков большее даёт сегодня нашему сердцу и разуму, — и выработали навыки вполне убедительно ДОКАЗЫВАТЬ это самим себе.
Однако убедительность «доказательств» принципиально недоказуемого значения того или иного художественного явления остается мнимой величиной. Рано или поздно убедительность оказывается недостаточной и преходящей. «Впечатления» же, о которых шла речь, -более постоянны и насущны. Их нужно вновь и вновь обосновывать. Насколько оправданно такое «хождение по кругу»? В чем суть несогласованности объективных и субъективных факторов в нашем отношении к художественному наследию?
Прояснить это могли бы помочь тонкие суждения Б. П. Вышеславцева об аксиологических различиях в природе разных критериев возможной оценки объекта (в том числе эстетического): «Здесь нужно говорить о критерии ПРАВДЫ, а не научной истины, как выражения эмпирического объекта. Критерий ПРАВДЫ прежде всего имеет аксиологическое значение, выражает ЦЕННОСТЬ, а не реальное бытие. // Первый критерий ПРАВДЫ есть непосредственная интуиция ЦЕННОСТИ, /./ это „логика сердца“, воспринимаемая a priori, сверхопытно, ибо ценности имеют лишь ИДЕАЛЬНОЕ БЫТИЕ» /37, с.58−59/.
Используя эти представления, можно выразить указанную выше проблему следующим образом. Для развития не только метода реализма, но и обогащения духовного потенциала русской культуры заслуги писателей «первого ряда» — Гоголя, Достоевского, Толстого' - трудно переоценить и даже с чем-то сопоставить. И это несомненная «ПРАВДА», которая дана нам в «непосредственной интуиции ЦЕННОСТИ» личного вклада названных писателей в нашу культуру. Труды теперь уже многих поколений исследователей лишь всесторонне обосновывают эту «правду». С другой стороны, «ПРАВДА» эта не исключает «ИСТИНЫ», согласно которой свой бесценный вклад в развитие художественного сознания внесли и по-своему участвовали в формировании духовного фонда культуры — Гончаров, Тургенев, Островский, Лесков, Щедрин и др. Их творческий опыт также уникален. Более того, этот их опыт учтен и усвоен, «ассимилирован» теми же Толстым и Достоевским, обусловил их великие открытия, вошел в состав коллективного опыта русской классики. Так выявляется взаимная «сублимация» двух критериев оценки — «правды» и «истины». На необходимость подобной аксиологической сублимации проницательно указывал в общефилософском плане Б. П. Вышеславцев в работах «Этика преображенного эроса» и «Вечное в русской философии» (см.выше).
Сказанное о соразмерности и взаимной ассимилиции заслуг писателей-классиков перед русской культурой имеет прямое отношение к нашему пусть небольшому, но реальному опыту «прочтения» некоторых пьес Островского. Принятый в настоящей работе подход к наследию драматурга — с точки зрения выраженных в нем аксиологических ориентиров — позволяет не «поставить», но увидеть Островского РЯДОМ с лидерами русского духовного прогресса XIX века, увидеть в нем СОУЧАСТНИКА духовного и художественного развития.
Здесь уместно привести пространную цитату из весьма основательной работы И. Виноградова: «.В процессе „отпадения от веры“ (выражение Толстого) новое внерелигиозное сознание эпохи оказывалось объективно перед насущной необходимостью заново обосновать всю систему нравственно-ценностного ориентирования в жизни — ту систему, которую раньше держал „замковый камень“ религиозной веры». И далее о заслугах Достоевского и Толстого: «.эпохальное новаторское значение их творчества по отношению ко всему предыдущему развитию мировой художественной культуры состояло в том, что они впервые ввели в область искусства и сделали его полноправной темой и проблемой громадную область человеческой свободы / /.
Ведь в том-то и дело, что до Достоевского и Толстого, до сформировавшей их эпохи религиозного кризиса образ человеческой свободы неизменно и прежде всего связывался с представлением о свободе реализации человеком своих «высших духовных устремлений и интересов» ВОВНЕ, В ОКРУЖАЮЩИЙ его мир, будь то сфера исторического действия или семейной жизни, государственной политики или гражданского быта. /. / Перед человеком открылась новая /. / сфера его свободы — сфера свободного нравственно-духовного и жизненного самоопределения с точки зрения «безусловного смысла жизни». И вот эту-то НОВУЮ, исторически только теперь ставшую актуально-проблемной СФЕРУ ДУХОВНОЙ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА и ввели впервые в искусство Достоевский и Толстой. И на художественном освоении ее и создали тот новый тип реализма, который Достоевский сам называл «реализмом в высшем смысле» «/33, с. 301, 302/.
При всей убедительности этих заключений, наш опыт обращения к Островскому позволяет все-таки привнести в них важные коррективы. «Искусство романа» не исчерпывает, конечно, всю «область искусства». А в этой последней «области» Достоевский и Толстой не были «первыми», кто ввел в нее и «сделал полноправной темой и проблемой громадную область человеческой свободы». Речь даже не о приоритетах «первенства». Как можно было убедиться, образ и судьба Катерины в «Грозе» со всей очевидностью свидетельствовали о всё той же «насущной необходимости системы нравственно-ценностного ориентирования в жизни». И систему эту не только «раньше держал „замковый камень“ религиозной веры», но и поныне способен держать в иных человеческих натурах, о природе которых прекрасно выразился в своей статье Добролюбов. А значит, упомянутый «замковый камень» вовсе не изжит в реальной действительности, какие бы религиозные кризисы ее не сотрясали. И значит, «систему нравственно-ценностного ориентирования» не для всех нужно «заново обосновывать» .
Другое дело, что нравственная природа образа Катерины может быть представлена как уникальная, как последняя демонстрация уходящих в прошлое возможностей человека. И тогда Достоевский и Толстой все же оказываются на следующем, «запредельном» этапе? Но и это можно утверждать не безусловно. В самом деле, как расценить позиции, искания, надежды многих героев — Сони Мармеладовой, Марьи Лебядкиной, Алеши Карамазова, Константина Левина, Дмитрия Нехлюдова и других — только ли как попытки «заново обосновать» религией смысл человеческой жизни? Думается, что опыт Островскогов частности, образ Катерины — здесь важнейшее духовное и художественное звено, без учета которого нельзя объективно судить о содержании и значении исканий русской классики. Даже в том, что касается конкретно заслуг наших великих писателей-психологов, нужна оглядка на бесценный и непреходящий в своем значении опыт Островского — великого драматурга, художника и духовидца.
— 182.
Список литературы
- Островский А.Н. Собр.соч. в 10 тт. М.: ГИХЛ, 1959−1960. /Данное издание цитируется в тексте диссертации с указанием тома и страницы. /
- Гончаров И.А. Собр.соч. в 8 тт. М.: ГИХЛ, 1952−1954.
- Гончаров И.А. Обломов. Л.: Наука, 1987.4. «Домострой». М.: Сов. Россия, 1990.
- Достоевский Ф.М. Полн.собр.соч. в 30 тт. Л.: Наука, 1971−1988.
- Лесков Н.С. Собр.соч. в 12 тт. М.: Правда, 1989.
- Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 тт. М.: Гослитиздат, 1928−1959.
- Толстой Л.Н. Собр.соч.в 22 тт. М.: Худ.лит., 1978−1985.
- Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989, с. 731.
- Христианство. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 3 тт. М.: «Большая Российская энциклопедия», 1993−1995.-183
- Белинский В.Г. Собр.соч. в 9 тт. М.: Худ.лит., 1977−1982.
- Григорьев A.A. Искусство и нравственность. М.: Современник, 1986.
- Михайловский Н.К. Полн.собр.соч. СПб.: Изд.Н. Н. Михайловского, 1909.
- Писарев Д.И. Сочинения. В 4 тт. М.: ГИХЛ, 1955−1956.
- Аникст A.A. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М.: Наука, 1972.
- Анненский И. Три социальные драмы. В кн.: Анненский И. Избранные произведения. — Л.: Худ.лит., 1988.
- А. Н. Островский-драматург. К 60-летию со дня смерти. 1886−1946. Сб.статей. М.: Сов. писательб 1946.
- Александр Мень. Ветхозаветные пророки. -Л.: Сов. писатель, 1991.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Сов. Россия, 1979.
- Бердяев H.A. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989.
- Билинкис Я.С. Драматизм и эпичность в пьесах Островского.
- Билинкис Я.С. Егор Дмитрич Глумов в пьесе Островского.
- В кн.: Билинкис Я. С. Непокорное искусство. Л.: Сов. писатель, 1991.
- Вайман СЛ. Неевклидова поэтика А.Н.Островского. В кн.: Вайман С. Т. Гармонии таинственная власть. — М.: Сов. писатель, 1989.
- Виноградов И.И. Реализм в высшем смысле. В кн.: Виноградов И. И. По живому следу: Духовные искания русской классики.- М.: Сов. писатель, 1987.
- Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии. В кн.: Вышеславцев Б. П. Этика преображенного эроса. — М.: Республика, 1994.
- Гачев Г. Г. Реализм XIX века. В кн.: Гачев Г. Г. Жизнь художественного сознания: Очерки по истории образа. М.: Искусство, 1972.
- Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. JI.: Худ. лит., 1977.
- Горелов А. Поэзия «горячего сердца»: А. Н. Островский. В кн.: Горелов А. Очерки о русских писателях. — Л.: Сов. писатель, 1984.
- Днепров В.Д. Идеи, страсти, поступки. Из художественного опыта Достоевского. Л.: Сов. писатель, 1978.
- Днепров В.Д. Искусство человековедения. Из художественного опыта Льва Толстого.- Л.: Сов. писатель, 1985.
- Емельянов Б. Островский и Добролюбов. -В кн.: А. Н. Островский. Сб. статей и мат-лов. М., 1962.
- Журавлева А. И. Некрасов В.Н. Театр А.Н.Островского: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1986.
- Журавлева А.И. Трагедийное в драматургии Островского // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1986. — N 3.
- Журавлева А.И. Церковь и христианские ценности в художественном мире А.Н.Островского // Русская словесность. 1995.- N 3.
- Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 тт. -Л.: «ЭГО», 1991.
- Калмановский Е.С. Российские мотивы. СПб.: «LOGOS», 1994.
- Камянов В.И. Поэтический мир эпоса. М.: Сов. писатель, 1978.
- Кант И. Трактаты и письма,— М.: Мысль, 1980.
- Красухин Г. Г. Покой и воля: Некоторые проблемы пушкинского творчества. М.: Современник, 1987.
- Лебедев Ю.В. 0 народности «Грозы», «русской трагедии» А.Н.Островского. В кн.: Лебедев Ю. В. В середине века. — М.: Современник, 1988.
- Лебедев Ю.В. Тургенев. М.: Мол. гвардия (ЖЗЛ), 1990.
- Лобанов М. Островский. (ЖЗЛ). М.: Мол. гвардия, 1979.
- Лотман Л.М. А.Н.Островский и русская дараматургия его времени. М.: Изд.АН СССР, 1961.
- Лотман Ю.M. Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство, 1994.
- Максимов C.B. А.Н.Островский. В кн.: Максимов C.B. По русской земле. — М.: Россия, 1989.
- Мандельштам О.Э. Сочинения. В 2 тт. М.: Худож.лит., 1990.
- Маркович В.М. Человек в романах И.С.Тургенева. Л.: ЛГУ, 1975.
- Москвина Т. В спорах о России: А. Н. Островский // Театр.-1 871 989. N 10.
- Одинокое В.Г. Типология образов в художественной системе Ф.М.Достоевского. Новосибирск: Наука, 1981.
- Осетров Е. Глазами Островского. В кн.: Осетров Е. Книга о русской поэзии. — М.: Худ.лит., 1982.
- Основин В.В. Искусство драматургии Островского. В кн.: Ос-новин В. В. Русская драматургия второй половины XIX века.1. М.: Просвещение, 1980.
- Палеева H.H. Драматургия Островского. В кн.: Палеева H.H. Проблема личности в русской классической драматургии. — М.: Искусство, 1992.
- Палиевский П.В. Русские классики. Опыт общей характеристики. М.: Худож. лит., 1987.
- Панченко A.M. Русская культура в канун петровских реформ. -Л.: Наука, 1984.
- Пирогов Г. П. А.Н.Островский. Семинарий. -Л.: Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1962.
- Ревякин А.И. А.Н.Островский. Жизнь и творчество. М.: Учпедгиз, 1949.
- Ревякин А.И. Искусство драматургии А.Н.Островского. М.: Просвещение, 1974.
- Сальникова Е. «Гроза» как вещь в себе // Театр. 1993, — N 12.
- Сараскина Л.И. Искажение идеала (Хромоножка в «Бесах»). В кн.: Сараскина Л. И. «Бесы»: роман-предупреждение. — М.: Сов. писатель, 1990.
- Свительский В.А. Герой и его оценка в русской психологической прозе 60−70-х годов XIX в. Автореферат диссерт. на соиск. уч. ст. д-ра филол.наук. Воронеж, 1995.
- Скатов H.H. Создатель народного театра. К 150-летию со днярождения А. Н. Островского // Звезда. 1973. — N 3.
- Скафтымов А.П. Белинский и драматургия А.Н.Островского. В кн.: Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. -М.: Худ. лит., 1972.
- Соловьев Вл.С. Сочинения в 2 тт. М.: Мысль, 1988.
- Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. М.: Республика, 1994.
- Творчество А. Н. Островского. Юбилейный сборник. М.-Пг.: Гиз, 1923.
- Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. В 2 тт. М.: Правда, 1990-
- Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
- Франк С.Л. Сочинения. М.: Правда, 1990.
- Шестаков В.П. Философия любви в России. В его кн.: Эсхатология и утопия. (Очерки русской философии и культуры). — М.: ВЛАДОС, 1995.
- Штейн А.Л. А.Н.Островский и драматургия «натуральной школы». В кн.: Штейн А.Л. Критический реализм и русская драма XIX века. — М.: ГИХЛ, 1962.
- Щенников Г. К. Достоевский и русский реализм. Свердловск: УрГУ, 1987.