Трехсложные размеры в истории русской литературы: проблемы ритмической эволюции и формирования семантических моделей поэтического языка
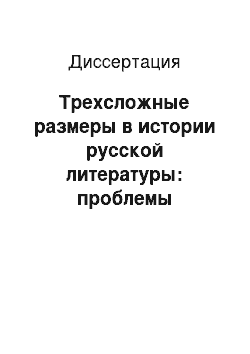
Ср. показательный фрагмент из статьи Гаспарова: «…нельзя не считаться с тем, что в сознании читателей, писателей и теоретиков XVIII—XIX вв. (кроме разве Чернышевского) двусложные и трехсложные размеры никогда не противопоставлялись как две системы: они принадлежали к одной и той же силлабо-тонической системе стиха, и предполагалось, что в них действуют общие нормы ритма» (Гаспаров М. Л. Еще раз… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Ритмический потенциал трехсложных размеров
- 1. XVIII век. Освоение трехсложников
- 2. Начало XIX века. Разработка амфибрахия и дифференциация его ритмических вариантов
- 3. Ритм трехсложников Н. А. Некрасова
- 4. Синтаксис трехсложников Н. А. Некрасова
- Глава 2. Канонизация и переосмысление традиции
- 1. Трехстопный анапест и дактиль современников Н. А. Некрасова
- 2. Семантическое членение строки в трехсложных размерах
- 3. Поэтика Н. А. Некрасова: опровержение постулатов «школы гармонической точности»
- 4. Трехстопный амфибрахий современников Н. А. Некрасова
- 5. Ритмико-синтаксическая структура трехсложных размеров в поэзии начала XX века
Трехсложные размеры в истории русской литературы: проблемы ритмической эволюции и формирования семантических моделей поэтического языка (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Трехсложные размеры, как и двусложные, появились в России в XVIII веке. Однако если проблемами ритма двусложников стиховеды активно занимались уже в 1910—1920;е годы1, то ритм трехсложных размеров — дактиля, амфибрахия, анапеста — довольно долго не привлекал к себе достаточного внимания исследователей. Обращение к этому материалу сразу.
— V поставило перед учеными целый ряд проблем. Первая из них — какова метрическая природа трехсложников? Этот вопрос широко обсуждался в ходе полемики между Н. С. Трубецким, Р. Я. Якобсоном, М. JI. Гаспаровым и В. Е. Холшевниковым о русской силлабо-тонике. Как известно, Трубецкой в статье «К вопросу о стихе «Песен западных славян» «отрицал существование стопы как реальной ритмической единицы в русских силлабо-тонических размерах, а их метрическую природу объяснял так: двусложники —-чередование «обязательно-безударных» слогов с «необязательно-ударными" — трехсложники — чередование «обязательно-ударных» слогов с «необязательно-безударными». Якобсон, в целом принимая систему Трубецкого, метрическую природу трехсложных размеров определял несколько по иному — как о чередование «обязательно-безударных» слогов с «обязательно-ударными». В статье «Еще раз к спорам о русской силлабо-тонике"4 Гаспаров выступил на стороне Трубецкого и Якобсона, причем собственные подсчеты Гаспарова, опубликованные в «Современном русском стихе» (М., 1974), доказали правоту Якобсона в понимании природы трехсложников: оказалось, что трехсложные размеры избегают сверхсхемных ударений на слабых местах стиха5. Во-первых, слабые места стиха преимущественно заполняются безударными слогами слов. Во-вторых, в качестве сверхсхемных ударений стих стремится использовать.
1 См.: Белый Л. Символизм. Книга статей. М., 1910; Шенгели Г. А. Трактат о русском стихе. I—II. Изд. 2-е. М.- Пг., 1923; Томашевский Б. В. О стихе. Л., 1929.
2 Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. М., 1987. С. 359—370.
3 Якобсон Р. Об односложных словах в русском стихе // Slavic Poetics. The Hague, 1973. P. 97.
4 Гаспаров М. Л. Еще раз к спорам о русской силлабо-тонике // Проблемы теории стиха. Л., 1984. С. 174—178.
5 Гаспаров М. Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика. М., 1974. С. 178—179. служебные части речи. В-третьих, сверхсхемные ударения на энклитиках избегаются больше, потому что именно там они звучат отчетливее. Противовесом междуударному интервалу в его стремлении к снижению естественной частоты ударений в трехсложных размерах служит анакруса. Таким образом, метрическая схема трехсложников, по Гаспарову, выглядит следующим образом: анакруса — «произвольно-ударная», слабые места — «обязательно-безударные», сильные места —¦ «обязательно-ударные».
Самым серьезным возражением против этой удобной и стройной схемы по сей день остается статья Холшевникова «К спорам о русском силлабо-тоническом стихе"1. Действительно, в понятие «обязательно-ударных» сильных мест трехсложников плохо укладываются пропуски метрических ударений — трибрахии — которые встречаются в трехсложных размерах, и особенно часто на первой стопе дактиля. Однако существование в русском стихе стопы как ритмической единицы Холшевников отрицал и сам2. •'.
Другая проблема заключается в том, что «естественнее» для русского языка — двусложные или трехсложные размеры. Первым, кто попытался ответить на этот вопрос, был Н. Г. Чернышевский. Во второй статье цикла «Сочинения А. С. Пушкина Изд. П. В. Анненкова» («Современник». № 3. 1855 г.)" он отмечал, что хорей и ямб «господствуют в немецкой версификации, потому что немецкая речь, говоря вообще, сама собою укладывается в двусложные стопы, имея ровное число слогов с ударениями и без ударений. Не то в русской речи. Наши слова вообще многосложнее: мы не ставим более одного ударения на сложных словахгораздо реже, нежели немцы, делаем ударения на местоимениях и частицах"3. Высчитав по нескольким строкам повести Писемского «Виновата ли она?» и началам рассказов «Часовщик» и «Голубые глазки», что среднее отношение числа слогов к числу ударений в русской прозе составляет 3:1, Чернышевский.
1 Холшевников В. Е. К спорам о русском силлабо-тоническом стихе // Холшевников В. Е. Стиховедение и поэзия. Л., 1991. С. 67—75.
2 Холшевников В. Е. Есть ли стопа в русской силлабо-тонике // Там же. С. 58—67.
3 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.: В 15 т. Т. 2. М., 1949. С. 470. заключает, что «ямб и хорей <.> далеко не так естественны в русском языке, как дактили, амфибрахии, анапесты"1, «.трехсложные стопы <.> и гораздо о благозвучнее, и допускают больше разнообразия размеров.». Позднейшие исследования, в общем, подтвердили выводы Чернышевского. Б. В. Томашевский, анализируя ритмический строй шестистопного ямба у Пушкина, писал: «.не так уже неправ Чернышевский, указавший на противоречия между ямбическим строем и свойствами прозаической речи <.> I и менее прав Аверкиев, возразивший Чернышевскому и ссылавшийся на закономерность пеонов, будто бы восстанавливающих нормальную длину слова («О драме», изд. 1893 г., с. 290—291). Всё-таки в ямбе среднее слово короче, чем в прозе (отсюда, понятно, нельзя делать вывода, что следует ямбы бросить и писать дактилем. Стихотворная речь в корне деформирует живую речь и поэтому смешно ссылаться на такие мелочи, как укорочение среднего слова, упуская из виду, что рифма, которую Чернышевский защищает, еще более противоречит стихии прозаической речи)"3. По данным Шенгели, средняя длина слова (акцентной группы) в русском языке равна примерно 2,7 слогам4. При этом подсчеты Гаспарова, опубликованные в «Современном русском стихе», позволили выявить следующую тенденцию: чем ближе текст к устной речи, тем короче в нем словапо мере удаления текста от устной речи слова в нем удлиняются (от 2,5 слогов в пьесах — до 3,5 слогов в научной прозе)5.
Однако когда Чернышевский в незаконченной статье «Естественность всех вообще ломоносовских стоп в русской речи» стал выбирать из предисловия Шиллера к «Энеиде» и из «Мертвых душ» Гоголя уже не отдельные слова, а «случайные» силлабо-тонические размеры, то обнаружил, что из 945 слогов 45,5% образуют двусложные и пеонические стопы и только 15,5% — трехсложные. Таким образом, если языковой модели русского языка.
1 Чернышевский Н. Г. Указ. соч. С. 471.
2 Там же. С. 472.
3 Томашевский Б. В. О шестистопном ямбе // Труды по знаковым системам. Т. IX. Тарту, 1977. С. 110—111 (Уч. зап. ТГУ. Вып. 422).
4 Шенгели Г. А. Трактат о русском стихе. С. 10.
5 Гаспаров М. Л. Современный русский стих. С. 82—87. оказались более свойственны трехсложные размеры, то речевая модель явно предпочитала пеоны, ямбы и хореи. Подсчеты Гаспарова подтвердили и это наблюдение Чернышевского: в речевой модели силлабо-тонических размеров «.двусложные размеры оказываются почти в 1,5 раза более «естественно возникающими», чем трехсложные"1. Объясняется это тем, что ямб и хорей, свободно допускающие пропуски ударений, могут вместить большее число словесных комбинаций, в то время как трехсложники, в которых по естественному ритму языка пропуски схемных ударений встречаются очень редко, являются менее емкими.
Третья важная проблема, связанная с изучением трехсложников, — это определение своеобразия их ритма, отличия его от ритма двусложных размеров. Гаспаров писал, что специфика трехсложников заключается в том, что их ритм создается не столько пропусками схемных ударений (как в двусложных размерах), сколько игрой сверхсхемных ударений и словоразделов. Похожая формулировка приведена в книге Гаспарова «Очерк истории русского стиха»: «Ритм ямба и хорея определялся преимущественно расположением пропусков ударения на сильных местах — в трехсложных размерах пропуски ударений по естественному ритму языка малоупотребительны, и ритмическое разнообразие стиха достигается не ими, а расположением словоразделов и сверхсхемных ударений"3. Так же определял специфику трехсложных размеров В. М. Жирмунский4.
Таким образом, единство метра всех трехсложных размеров выражено противопоставлением «обязательно-безударных» слабых мест (стих стремится избавиться от сверхсхемных ударений) и «обязательно-ударных» сильных мест (случаи пропусков метрических ударений встречаются все же очень редко) — анакруза стиха является «произвольно-ударной». Трехсложники более.
1 Гаспаров М. Л. Современный русский стих. С. 147.
2 Гаспаров М. Л. Ритмика трехсложных размеров в русской литературе // Н. А. Некрасов и русская литература. Кострома, 1971. С. 62—68.
3 Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. М., 2000. С. 147—148.
4 Жирмунский В. М. Теория стиха. Л., 1975. С. 47—51. свойственны русскому языку, чем двусложники, но из-за редких пропусков метрических ударений они оказываются способны вместить гораздо меньшее число словесных комбинаций, чем двусложные размеры. Специфика трехсложников и их отличие от двусложных размеров заключается в том, что разнообразие ритма достигается в них не пропусками метрических ударений, а сверхсхемными ударениями и игрой словоразделов.
Минимальные возможности создания ритмического разнообразия у этих размеров (применительно к классическим трехсложникам XIX века) в глазах многих исследователей как будто заслоняют поистине поразительный факт широчайшего употребления дактиля, амфибрахия и анапеста не только во время Некрасова и Фета, традиционно воспринимаемое как период господства прозы, но и в совершенно иную эпоху — в творчестве Блока, Пастернака, Есенина и др. Не принимаются во внимание и весьма любопытные и значимые связи трехсложных размеров с «чисто-тоническим» народным стихом и дольником XX века, отмеченные в свое время еще Томашевским1.
Парадоксальность положения состоит в том, что, несмотря на многочисленные выпады в адрес А. Белого по поводу его понимания ритма как системы отступлений от метрической схемы, некоторые стиховеды при анализе трехсложников приходят к ровно такому же определению ритма этих размеров или, выражаясь прямолинейнее, к вынужденному признанию его отсутствия.
Дело здесь, разумеется, в неравном соотношении ритмообразующих факторов двухи трехсложных размеров. Общепризнано, что в русском стихе основное ритмическое движение создается расположением схемных и сверхсхемных ударений, тогда как различные словораздельные вариации носят вспомогательный характер2. Из этого неизбежно следует вывод о бедности ритмических возможностей трехсложников. В самом деле, различные.
1 См.: Томашевский Б. В. О стихе. С. 47.
2 Ср.: «.обычно поэты обращают главное внимание на ритм ударений, а в ритме словоразделов следуют естественным тенденциям языка, стараясь лишь, чтобы расположение их было не слишком однообразно и не делало стих монотонным» (Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890-х —1925;го годов в комментариях. М., 1993. С. 97). комбинации мужских, женских и дактилических словоразделов и клаузул в трехстопных строках образуют лишь 27 возможных вариантов. Несколько разнообразнее оказывается анапест, в котором регулярные сверхсхемные ударения на первом слоге увеличивают это число вдвое. В дактиле частые пропуски метрических ударений на первой стопе дают еще 9 возможных вариантов. Это, конечно, несравнимо с ритмическим богатством двусложных размеров.
Вместе с тем приходится признать, что наши положительные знания о ритме трехсложников свидетельствуют, скорее, о непонимании специфики их структуры. В самом деле, малоупотребительность пропусков метрических ударений в трехсложных размерах объясняют почти исключительно данными языковой системы, однако естественный ритм языка не настолько уж препятствует появлению четырехсложных или пятисложных слов (учитывая, что речь идет не о графических, а о фонетических словах)1. Следовательно, подобный жестко фиксированный акцентный каркас трехсложников, создаваемый почти стопроцентной ударностью сильных мест (за исключением первой стопы дактиля), является скорее определенным ритмическим заданием: ведь возникают же трибрахии в творчестве Некрасова и позднего Полонского, не говоря уже о стихотворной практике поэтов XX века. Сверхсхемные ударения внутри стиха появляются редко и словно случайно, но в то же время их расположение в строке подчинено определенным закономерностям, сущность которых все еще недостаточно ясна. Женские словоразделы в трехсложниках повсеместно преобладают, хотя позднейшие подсчеты Гаспарова доказали, что, сравнительно с «естественным» и «теоретическим» стихом, их количество в произведениях самых разных поэтов уменьшается, а число более редких в языке дактилических словоразделов вырастает. Наконец, есть вопросы, которые зачастую просто обходят исследователи: непонятно, как связаны между собой разные словоразделы в стихе и каким образом они.
1 См.: Шенгели Г. А. Трактат о русском стихе. С. 20.
2 См.: Гаспаров M.JI. Современный русский стих. С. 158—167. соотнесены с клаузулойкак ритмическое строение строки влияет на ее синтаксическое членениекак коррелируют друг с другом разные типы стихов в пределах строфы.
Иными словами, в стремлении подсчитать, какие типы словоразделов встречаются в трехсложных размерах чаще, все без исключения стиховеды, занимавшиеся ритмом трехсложников, упускали из виду самое главное — ритмико-синтаксическое единство и целостность строки и строфы. Более того, обнаруженные для какого-то одного размера закономерности в расположении словоразделов по непонятным причинам признавались справедливыми и для остальных размеров. Речь, таким образом, все время велась не о конкретных трехсложниках разных авторов, разных эпох, разной тематики, а об общей для всех размеров метрической схеме и ее возможных модуляциях. Это тем более странно, что несходные истории развития, специфические семантические ореолы и проч. дактиля, амфибрахия и анапеста уже, казалось бы, должны говорить в пользу признания у них разных ритмических потенциалов.
Исходя из всего вышесказанного, мы можем сформулировать цель, и основные задачи настоящей работы. Главной целью является изучение ритмической эволюции трехсложников от момента их появления в XVIII столетии до начала XX века. Как было показано в работах Белого, Томашевского, Жирмунского, Тарановского и др., ритм двусложных размеров существенным образом менялся на протяжении их истории в русской поэзии, поэтому совершенно неправомерно рассматривать ритмическую структуру трехсложников как данную от века, раз и навсегда, не способную ни к каким трансформациям. Заранее следует оговориться, что мы будем описывать ритм каждого из трехсложных размеров дифференцированно, поскольку смешение данных по дактилю, амфибрахию и анапесту не позволит выявить специфику их ритмических предпочтений. Для рассмотрения будут привлекаться, в основном, трехстопные трехсложники, в силу двух следующих причин. Во-первых, общая сумма их слогов (7−11) соответствует средней длине речевого колона (точно так же, как у четырехстопных двусложников), а значит, они более естественны для русской речи. Во-вторых, поскольку доля стихов средней длины, как нейтральных, в общем количестве текстов лучше всего свидетельствуют об употребительности размеров, то именно трехстопные трехсложники являются, так сказать, наиболее репрезентативными.
Достижению указанной цели должно служить решение нескольких конкретных задач. Более всего нас будет интересовать расположение словораздельных комбинаций и их соотношение с разными типами клаузул, т. е. строение стихотворной строки в трехсложниках. В рамках настоящей работы мы вынуждены отказаться от изучения закономерностей в расположении стихов разной структуры внутри строфы, хотя представляется вполне вероятным, что для ритма трехсложных размеров соотнесение соседних строк — чтение не только по горизонтали, но и по вертикали — служит очень важным фактором. Однако анализ строфического ритма должен стать следующим шагом в исследовании ритмики трехсложников лишь после того, как будут ясны основные принципы строения изолированных «стихов. При анализе ритмики каждого размера фиксировалось количество пропусков схемных ударений, количество и место сверхсхемных ударений, расположение словоразделов и клаузул. Схемные и сверхсхемные ударения расставлялись по системе, предложенной в свое время М. Л. Гаспаровым и Т. В. Скулачевой1.
A priori можно предположить наличие в трехсложниках тенденции к некоторой «стопочленимости» («стопобойному» ритму), однако, по нашим предварительным наблюдениям, степень обособленности стоп в этих размерах неодинакова. Так первая стопа носит явно вводный характер, задает ритмическую инерцию стиха и в достаточной степени отделена от остальной части строки. Чтобы доказать это, необходимо проанализировать степень связанности начального, срединного и конечного слов, находящихся на сильных местах стиха (по системе Гаспарова, позиции НС, СК и НЕС) — данные.
1 Гаспаров МЛ., Скулачева Т. В. Ритм и синтаксис в свободном стихе // Очерки истории языка русской поэзии 20 века: Грамматические категории. Синтаксис текста. М., 1993. С. 32. по первым двум позициям покажут силу соединенности соседних стоп, а подсчеты по НК помогут определить, насколько, при отмеченной тенденции к обособлению первой стопы, стих связан в некое единое синтаксическое целое.
Не менее важным является установление преимущественной позиции «узла связи», т. е. слова, синтаксически связанного с двумя другими словами в строке. Многие исследователи говорили о сходстве трехсложных размеров с народным стихом, в основе которого лежит тонический ритм, отодвигающий фактор силлабического равенства строк на второй план. Но, помимо этого, есть еще и другое, очень любопытное совпадение. В работах начала XX века, посвященных анализу ритма пушкинских «Песен западных славян», неоднократно упоминалось, что большинство стихов в этом произведении состоит из трех «значимых выражений» (ударений, «просодических периодов» и проч.). Подобную же тенденцию, безусловно, можно отметить и в трехстопных трехсложниках, недаром, по подсчетам Шенгели, значительная часть «Песен» написана трехстопным анапестом. Представляется плодотворной мысль о том, что стихотворная строка в трехсложниках строится на чередовании «сильных» и «слабых» метрических слов. Понятно, что речь здесь идет и о смысловой, и о синтаксической значимости, однако если первая является в значительной степени фактором субъективным, то установления второй можно добиться путем синтаксического анализа, прежде всего, выделением «узла связи» — грамматического центра строки.
Перечисленные выше задачи определяют композицию настоящей работы, которая состоит из введения, двух глав и заключения. Первая глава «Ритмический потенциал трехсложных размеров» посвящена изучению истории утверждения трехсложников в русской поэзии и формирования их ритмико-синтаксической структуры в творчестве Некрасова. Во второй главе «Канонизация и переосмысление традиции» прослеживаются основные этапы ритмической эволюции трехсложных размеров в поэзии современников Некрасова и авторов начала XX века.
Исследованный нами материал можно разделить на четыре хронологические группы:
1. XVIII в. Из тех авторов, у которых, по подсчетам К. Д. Вишневского1, встречаются трехсложные размеры, нами рассмотрены А. П. Сумароков, И. Ф. Богданович, М. М. Херасков, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин.
2. 1800—1840-е гг. В этот период трехсложники более или менее регулярно встречаются в творчестве В. А. Жуковского, А. А. Дельвига (по данным метрико-строфического справочника «Русское стихосложение XIX века») и М. Ю. Лермонтова (по материалам Б. И. Ярхо3).
3. 1850—1880-е гг. Здесь центральной фигурой, безусловно, является Н. А. Некрасов. Из его современников мы выбрали некоторых, условно говоря, поэтов «некрасовской школы» (М. Л. Михайлов, И. С. Никитин) и поэтов «чистого искусства» (Я. П. Полонский, А. А. Фет, А. К. Толстой). •.
4. начало XX века. Для изучения ритма трехсложных размеров этого периода мы обращались к творчеству А. А. Блока и Б. Л. Пастернака (для сравнения привлекались данные по стиху В. Я. Брюсова, 3. Н. Гиппиус, С. А. Есенина, В. И. Иванова, Г. В. Иванова, И. Северянина, Ф. Сологуба).
Такой выбор авторов, конечно, не может претендовать на исчерпывающую полноту описания материала, но позволяет представить себе в общих чертах историю развития трехсложных размеров в русской поэзии. Нами рассмотрены стихотворения, поэмы и части полиметрических композиций названных поэтов, написанные трехстопными трехсложниками. Стихотворения, написанные вольными размерами, не учитывались. Подсчеты по четырехстопным и урегулированным разностопным схемы 4343 размерам.
1 См.: Вишневский К. Д. Русская метрика XVIII века // Вопросы литературы XVIII века. Пенза, 1972. С. 129— 258.
2 Русское стихосложение XIX в. Материалы по метрике и строфике русских поэтов. М., 1979.
3 Лапшина Н., Романович И., Ярхо Б. Из материалов «Метрического справочника к стихотворениям Лермонтова» // Вопросы языкознания № 2. 1966. С. 94. приводятся выборочно для сопоставления с основными данными. Поиск произведений осуществлялся, в основном, по академическим собраниям сочинений, а в случае отсутствия таковых — по изданиям большой серии «Библиотеки поэта» или «Новой Библиотеки поэта».
Ритмическое своеобразие трехсложных размеров определяется расположением словоразделов в стихе. Величина междуиктового интервала в трехсложниках требует большей силы и устойчивости метрических ударений, которая, в свою очередь, приводит в большинстве случаев к атонированию сверхсхемных ударений. Малочисленные случаи пропусков метрических ударений (даже в более поздних стихотворениях Пастернака) в каждом размере, за исключением первой стопы дактиля, носят исключительный характер и, как правило, играют роль ритмического курсива или маркера окончания периода. Сверхсхемные ударения на всех местах стиха, кроме первого слога анапеста, встречаются в нашем материале крайне редко и часто просто подчеркивают эмоциональные жесты или отмечают начало новых синтагм. Каждое внеметрическое ударение деформирует ритм трехсложного размера и звучит сильным перебоем. Общими для всех трехсложных размеров по частоте встречаемости являются комбинации из двух словоразделов, так как комбинации с одним словоразделом характерны только для дактиля, комбинации из трех словоразделов — только для анапеста, а комбинации из четырех словоразделов единичны. Распределение в стихе комбинаций словоразделов и клаузул определяется двумя факторами: языковой системой и ритмическим опытом автора. Влияние языковой системы сказывается в преобладании во всех трех размерах комбинаций с женским словоразделом и в редкой встречаемости комбинаций, требующих использования слов из 5 или 1 слога. Ритмические предпочтения автора различны для каждого размера и выявляются в диахронии или путем сопоставления данных по разным трехсложникам. В трехсложных размерах отчетливо чувствуется деление строки на стопы, стремление к стопораздельному строению стиха. Эта тенденция настолько сильна, что внутристиховые синтаксические границы, как правило, совпадают с границами стоп, в результате чего строка разбивается на равные такты: вторая и третья стопы стремятся уподобиться первой. Соответственно, в каждом размере преобладают, сравнительно с другими размерами, те словоразделы и клаузулы, которые обеспечивают его стопочленимость. При этом необычайно важным оказывается соотношение «восходящих» и «нисходящих» стоп: как мы пытались показать, женский и дактилический словоразделы, сохраняющие заударную часть стопы, ощущаются поэтами как однородные вариации основного тона и противопоставлены мужскому словоразделу, как бы обрывающему ритмическое движение стиха. Поэтому в анапесте, по сравнению с амфибрахием и дактилем, выдвигаются мужские словоразделы и клаузулы, а в амфибрахии и дактиле, по сравнению с анапестом, — женские или дактилические. Стопочленимость обрекает трехсложники на монотонность и однообразие ритма, придает им напевность, которая еще в XVIII веке предопределила связь трехсложных размеров с жанрами, имеющими отношение к музыкальному исполнению. Эту тенденцию можно было бы, по аналогии с двусложниками, назвать «первичным» ритмом трехсложных размеров, однако важен тот факт, что она не прекратила своего существования и когда на ее преодолении начал формироваться, условно говоря, «вторичный» ритм амфибрахия, анапеста и дактиля. Резкое отличие его заключается в расподоблении первого и второго. словоразделов — по принципу «восходящего» и «нисходящего» движения. При этом первый словораздел задает начало строки (анапест — мужской, дактиль и амфибрахий — женский /.
дактилический), а второй ему противопоставлен (анапест — женский / дактилический, дактиль и амфибрахий — мужской) и стремится уподобиться клаузуле. Таким образом, строка как бы разламывается надвое, возникает характерный «двускатный» ритм. Синтаксическое строение стиха в трехсложных размерах, как правило, параллельно ритмическому. Иными словами, можно выделить две основных тенденции синтаксической организации строки в трехстопных трехсложниках, соотносящихся с «симметричной» и «асимметричной» ритмическими структурами. Первая предполагает синтаксическую связанность всех слов, стоящих на сильных местах стихапри этом предпочтение отдается связям средней степени силы (дополнительным, обстоятельственным, между подлежащим и сказуемым). Суть второй заключается в контрастном сопоставлении самой сильной (атрибутивной) и самой слабой (на границе.
синтагм) синтаксических связей на позиции I-II и П-Ш: женскому / дактилическому словоразделу при этом соответствует более тесная соединенность схемноударных слов, а мужскому — их разорванность между разными синтаксическими отрезками или обособленность друг от друга в пределах одного отрезка. Ритмическая эволюция каждого из трехсложных размеров шла разными путями. Наметим основные вехи развития трехстопных трехсложников.1. Амфибрахий. XVIII век — симметричное стопораздельное строение. Время Жуковского и Лермонтова — разведение двух ритмических вариантов размера: «лирической», продолжающей традицию XVIII века, и «балладной», основанной на расподоблении словоразделов, традиций. Время Некрасова и Фета — продолжение двух предыдущих линий развития и появление новой, «гейневской» разновидности с сильно выделенным первым мужским словоразделом. Время Блока и Пастернака постепенное вытеснение «симметричной» ритмической структуры «асимметричным» вариантом.2. Анапест. Активное освоение только в 1840—1880 гг. Разведение «симметричной» и «асимметричной» разновидностей в творчестве Некрасова и Фета, с последующим окончательным закреплением в поэзии современников некрасовского ритмического варианта, основанного на расподоблении словоразделов. 1910—1930 гг. — ритмическое сближение амфибрахия и анапеста на основе заполнения стиха дактилическими и мужскими словоразделами, в ходе которого анапест усваивает себе несродную ему исторически экспрессивность мужского словесного окончания.3. Дактиль. XVIII век — симметричное стопораздельное строение размера. 1840—1880 гг. — сохранение «симметричной» разновидности в «идиллических» стихотворениях Некрасова и осваивание дисгармоничного варианта в его «публицистических» текстах. В творчестве современников Некрасова и в поэзии первой четверти XX века — закрепление и канонизация ритмической структуры, основанной на расподоблении словоразделов. Важнейшим фактором ритмической эволюции трехсложных размеров является постепенная, как сказали бы формалисты, «автоматизация приема». Единство ритмико-синтаксического и семантического строения строки, свойственное стихам Некрасова и Фета, чем дальше, тем больше забывается, и традиционная модель стиха как бы каменеет, становится самодовлеющим, независимым от смыслового членения фактором. Так, В. Брюсов, написав известное О, закрой свои бледные ноги!1 с абсолютной точностью воспроизвел характерную структуру некрасовского трехстопного анапеста: (М) (Д)—(Ж), однако яркое ощущение противопоставленности, конфликтного столкновения враждующих смысловых отрезков в знаменитом моностихе уже отсутствует. На смену ритмико-семантическому моделированию строки приходит бесконечное разнообразие ритмических ходов, каждый раз по-новому обыгрывающих смысловое членение строки. Одновременно с этим исчезает само разграничение ритмических моделей разных трехсложных размеров: из практики поэтов постепенно вытесняется симметричная стопораздельная.
Русские символисты. M., 1895. 13. структура стиха — в амфибрахии, анапесте и дактиле все больше утверждается соединение дактилического и мужского словоразделов, причем тип клаузулы преимущественно совпадает с типом второго словораздела. В конечном итоге «балладный» вариант трехстопного амфибрахия оказывается в истории ритмического развития трехсложных размеров наиболее продуктивным (о трехстопном дактиле этого сказать нельзя, поскольку к 1910;
м гг. он все больше выходит из употребления). Однако сам принцип расподобления словоразделов к началу XX века, вероятно, осознается уже как слишком маловыразительный и плохо заметный. На смену ему приходит принцип «расподобления междуударных интервалов», позволяющий добиться несравнимо более яркого и экспрессивного звучания, — так возникают дольники. Тем не менее, общая закономерность строения — формирование определенной ритмической инерции и ее дальнейшее разрушение — остается неизменной. В заключение остановимся на следующих соображениях. Верно то, что русская теория метрики в ее нынешнем виде оформилась на удивление быстро и безболезненно. Полемика Н. Трубецкого, Р. О. Якобсона", В. Е. Холшевникова и М. Л. Гаспарова.
позволила за самый короткий срок не только утвердить в научном обиходе представление о чередовании сильных и слабых позиций стиха, но и от первых, еще не до конца обоснованных выводов Трубецкого прийти к вполне жестким определениям Гаспарова. Верно и другое. В силу специфической постановки проблемы и горячего детерминистского пафоса исследователей, желавших охватить в одной компактной формуле все многообразие ритмических форм русского классического стиха, возникшая теория вылилась в некоторые парадоксальные заключения. Главное из них — утверждение принципиального тождества законов ритмики двусложных и.
Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. М., 1987. Якобсон Р. Об односложных словах в русском стихе // Slavic Poetics. The Hague, 1973. P. 239—252. Холшевников B.E. К спорам о русской силлабо-тонике //Проблемы теории стиха. Л., 1984. 168—173. Гаспаров М. Л. Еще раз к спорам о русской силлабо-тонике // Проблемы теории стиха. 174—178.трехсложных размеров.
. Между тем, в начале XX века, когда в реальной стихотворной практике поэтов закладывались основы будущих широких обобщений, различие между этими двумя системами было без преувеличения ключевым. Одна интересная особенность поэтического сознания начала XX века заключается в том, что практически одновременно и в тесной связи одно с другим формируются представления о «логометровой».
природе ритма стиха и «логаэдической» природе ритма прозы. Стиховедческая мысль того времени с поразительным упорством отрицает традиционную стопную теорию стихотворной речи как выхолощенную абстракцию, никак не связанную с реальным звучанием.
и в то же время вновь и вновь ищет двух-, трехи четырехсложных стоп в речи прозаической.
. Парадокс этот кажется вполне объяснимым, если принять во внимание равнозначность «словесного» ритма — «тоническому» (единица — ударение) и «стопного» ритма —.
Ср. показательный фрагмент из статьи Гаспарова: «…нельзя не считаться с тем, что в сознании читателей, писателей и теоретиков XVIII—XIX вв. (кроме разве Чернышевского) двусложные и трехсложные размеры никогда не противопоставлялись как две системы: они принадлежали к одной и той же силлабо-тонической системе стиха, и предполагалось, что в них действуют общие нормы ритма» (Гаспаров М. Л. Еще раз к спорам о русской силлабо-тонике. 176). Определение «логометрового» стиха дано В. А. Чудовским в статье «О ритме пушкинской „Русалки“ (Отрывок)» (см.: Аполлон. 1914. № 2. 108). А. М. Пешковский писал по поводу ряда исследователей, которые старались вычленить в прозе стихи, образованные сложением, склеиванием различных стоп: «Все названные авторы <…> ищут, к сожалению, не отличий ритма прозы от ритма стиха, а, напротив, сходств в этом отношении прозы со стихом, т. е., в сущности, аннулируют самую задачу исследования, поскольку дело идет именно о прозе. Все они исходят как бы из молчаливого предположения, что иных ритмических форм, кроме тех, какие даны в стихе, быть не может. Но с лингвистической точки зрения такое предположение ничем не может быть оправдано» (Пешковский A.M.Принципы и приемы стилистического анализа и оценки художественной прозы // Ars poetica. [Вып.] I. М., 1927.С. 44—45). Характерно упоминание Б. В. Томашевского о целом направлении в современной ему науке о ритме, рассматривающем стих как состоящий не из отвлеченных ритмических единиц — слогов или стоп, а из конкретных — слов. Война с инвариантом метрической схемы, начатая еще А. Белым, привела с течением времени, напр., к требованию Л. Тимофеева «не сводить богатство конкретных стихотворных ритмов к совершенно бесполезному и абстрактному метру, а находить в каждом случае ту „норму“, которая создана данным стилем <…> существует ли вообще эта единая метрическая норма, с которой мы соотносим отступающий от нее ритм, каким образом попал в человеческое сознание этот идеальный метрический закон?» (Тимофеев Л. Теория стиха. М., 1939. 23). См. также: Чудовский В. А. Несколько мыслей к возможному учению о стихе (с примерным разбором стихосложения в I главе «Евгения Онегина») // Аполлон. 1915. № 8/9.С. 55−95- Чудовский В. А. Несколько утверждений о русском стихе // Аполлон. 1917. № 4/5. См., напр., следующие работы, отстаивающие естественность силлабо-тонических отрезков в ритмической прозе: Белый А. О художественной прозе // Горн. 1919. Кн. Н-Ш. 49—55- Гроссман Л. П. Собр. соч.: В 5 тт.Т. 3. М., 1928. 75—114- Бродский Н. Л. Проза «Записок Охотника» // Тургенев и его время. Сб. 1. М.- Пг., 1923. 193—199- Шенгели Г. О ритмике тургеневской прозы // Шенгели Г. Трактат о русском стихе. М.- Пг., 1923. 178—181- Энгельгардт Н. А. Мелодика тургеневской прозы // Творческий путь Тургенева. Пг., 1923.С. 9—63."силлабическому" (единица — группа слогов). Разрушение силлабо тонической системы в начале века идет по линии разграничения сфер поэтического и прозаического, наделяемых в стиховедческом плане признаками тоники и силлабики соответственно. Поэзия начинает осознаваться как тоническая по своему существу. Когда мы говорим о том, что единицей «словесного» ритма стиха является ударение, мы, понятно, имеем в виду не всякое слово и не всякое ударение. Речь идет о так называемых «значимых выражениях» стиха или — в ретроспективе — «прозодических периодах», на определении которых была построена теория народного стиха А. X. Востокова1. О том, насколько важным становится в новое время смысловое конструирование стихотворной строки, насколько приобретает оно ритмообразующий характер, свидетельствует, например, печально знаменитая «сдвигология» А. Крученых. Будучи рассмотрена не в свете анекдотическом, не как «кромсание Пушкина», эта своеобразная научная дисциплина предстает вполне характерным для своей эпохи явлением, ведь под сдвигом Крученых понимает слияние при чтении двух или более орфографических слов в одно звуковое (фонетическое), при этом имманентной, структурной причиной сдвига в стихе называет несовпадение метра с лексикой.
. Не ритм теперь воспринимается как деформирующий смысл фактор, но напротив, смысл, точнее — последовательность смысловых групп слов, считается первоосновой ритмической организации стиха. Направление развития стиховедческой мысли в начале XX века было во многом предопределено самой перестройкой системы стихосложения, расшатыванием традиционной силлабо-тоники и формированием на ее основе.
Востоков А. Х. Опыт о русском стихосложении. Изд. 2-е, значительно пополненное и исправленное. СПб., 1817. 98—106. Ср. с давно забытой и вызвавшей в свое время многочисленные насмешки идеей барона Гинцбурга о тактовом строении русских силлабо-тонических размеров. Гинцбург в своей книге отмечал, что «слова [в трехсложниках — СМ.] расположатся таким образом, чтобы ударение падало поочередно на важное и второстепенное речение» (Гинцбург Д.Г. О русском стихосложении. Пг., 1915. 103).Крученых А. Сдвигология русского стиха: Трахтат обижальный (Трахтат обижальный и поучальный). М., 1922; Он же. 500 новых острот и каламбуров Пушкина. М., 1924. стиха нового, дольникового типа. Важно не забывать, насколько происходящее никем тогда не расценивалось как кардинальная замена одного структурного принципа другим, насколько влиятельно на этом переходном этапе было именно впечатление постепенного разламывания рамок старой ритмической модели, словно не способной больше вместить в себе новое содержание Именно поэтому поэтическое восприятие эпохи так любопытно «трехсложно», в отличие от «двусложного» сознания времен становления и расцвета русского классического стиха. Ученые давно уже доказали: русский дольник сформировался на основе трехсложных размеров" - досадно только, что при этом слишком много внимания уделялось анализу внешних ритмических проявлений этого процесса и недостаточно — характеристике лежащих в его основе закономерностей смыслового моделирования стиха.
. Выработанные в рамках традиционной, жестко детерминированной и располагающей лишь незначительным арсеналом ритмических средств системы принципы «смыслового стихосложения» постепенно пробуждаются к жизни и властно разламывают ставшую им тесной метрическую колыбель трехсложника. Другое дело, что сформироваться и окрепнуть эти принципы могли только в подобной регламентированной системе — в условиях внешней, ритмической «несвободы» рождалась великая внутренняя гармония смысла. Значительным шагом вперед, сделанным русской наукой о стихе XX века в выяснении вопроса отношения просодии к метрике, стало четкое отграничение от ударных и безударных слов особой категории слов метрически двойственных.
. Жирмунский, которому принадлежит здесь главная заслуга,.
Ср., напр., теорию единого «размерочного первоначала» классических и неклассических размеров Божидара (Божпдар [Гордеев Б.П.]. Распевочное единство. М., 1916) — и перекликающиеся с ней размышления Боброва о «трехдольном паузнике» (Бобров Новое о стихосложении А. Пушкина. М., 1915). См.: Томашевский Б. В. О стихе. Л., 1929; Гаспаров М. Л. Русский трехударный дольник XX в. // Теория стиха.Л., 1968. 59—106. Трехсложные размеры, дольники и народный стих для теоретиков начала XX века объединяются в некое особое «смысловое стихосложение», поскольку в основе каждой из этих систем лежит счет «значимых выражений», обычно несущих на себе одно тоническое ударение. См., напр.: Брюсов В. Основы стиховедения.М., 1924. Ср.: «…Спорными для русской просодии являются акцентные отношения особой категории малоударных слов, по преимуществу — односложных, реже — двусложных, которые занимают как бы среднее положение между словами значащими (понятиями) и словами чисто служебными (как предлоги и союзы): сюда относятся, относил к данной группе местоимения, местоименные наречия и союзы, односложные числительные, вспомогательные глаголы и междометия, указывая на специфически двойственный характер их акцентуации: все эти слова подвергаются атонированию в непосредственном соседстве ударения, но рядом с неударным слогом сохраняют более или менее заметное отягчение. К сожалению, разработанная Жирмунским тонкая и сложная методика дифференциации силы ударений на двойственных словах и предложенный им принцип учета ударений как системы определенных количественных отношений не прижились в стиховедении — как по причине самой своей сложности, неизбежно сказывающейся в дроблении статистических показателей, так и по причине отсутствия экспериментальных лингвистических данных, которые подтверждали бы гипотетические построения Жирмунского. Данные эти отсутствуют и по сей деньнеизвестно, появятся ли они когда-нибудь вообще, да и есть ли в них необходимость. В практических целях акцентной разметки стиха ученые с успехом пользуются набором некоторых стандартных операций, намеченных в черновом виде еще Жирмунским и окончательно сформулированных Гаспаровым и Т. В. Скулачевой. Плодотворность нововведения Жирмунского заключается — в теоретическом плане — в осознании конвенциональное&tradeприроды стихового ударения.
. В стихе действуют особые законы акцентуациисловесный ряд накладывается на некую заранее определенную ритмическую сетку с размеченными сильными и слабыми позициями, так что движение ударности приспосабливается к выпуклостям и неровностям заданной формы. В этом смысле неправомерно сравнение с речью практической, с общеязыковыми законами. Стиховая речь деформирует тонирование слова так же, как главным образом, местоимения и некоторые наречия (местоименные), вспомогательные глаголы и немногие другие" (Жирмунский В. М. Теория стиха. 87). См.: Гаспаров М. Л., Скулачева T.B. Статьи о лингвистике стиха. М., 2004. 186—187. Конвенциональность эта не была секретом уже и для В. К. Тредиаковского (ср. рассуждения об «общих» словах русского языка в «Новом и кратком способе») — Жирмунский просто первым смог нащупать ее истинные причины. деформирует его звуковой состав.
. Важно определить законы этой деформации, и тогда, при сопоставлении расшатанной частыми пропусками ударений ритмической структуры двусложников и жесткого ритмического каркаса трехсложников, образованного незыблемыми ударными константами, станет отчетливее видно базовое различие размеров, предопределившее их столь разные в истории русской поэзии судьбы. Все дело здесь как раз в метрически двойственных словах, подавляющее большинство которых составляют местоимения. Степень ритмической выделенности местоимений в двусложных и трехсложных размерах поневоле оказывается различной. Частые пиррихии в ямбе и хорее создают гораздо более выгодные условия для ударяемости местоименийсама структура двусложников предполагает постоянную возможность для них оказываться в соседстве безударного слога и — в соответствии с теорией Жирмунского — получать более или менее сильное отягчение. Не то в трехсложных размерах, где местоимения попадают в кольцо схемных ударений и, неизбежно примыкая • либо к предшествующему, либо к последующему, атонируются и сглатываются в звучании. Единственное исключение — первый слог анапеста — не играет здесь значимой роли как находящийся на анакрузе и, следовательно, за пределами метрического ряда.Ср., напр., у Н. А. Некрасова в «Тройке», где густота употребления «ты» / «твой» на безударных позициях создает впечатление особого приема обезличивания, снятия адресата: «Что ты жадно глядишь на дорогу» (1−43), «Все лицо твое вспыхнуло вдруг» (1−43), «И зачем ты бежишь торопливо» (I;
43), «Полюбить тебя всякий не прочь» (1−43), «В волосах твоих, черных как ночь» (1−43), «Сквозь румянец щеки твоей смуглой» (1−43), «Да не то тебе пало на долю» (1−43), «Будет бить тебя муж-привередник» (1−44), «Погрузишься ты Дело, понятно, не в отмене запрета на переакцентуацию, хотя даже в русском стихе она порой имеет место.Ср. размышления Якобсона о „дуализме заданного и фактического ряда ударений“ в силлабо-тоническом стихе, ритмическая инерция которого навязывает стихотворной речи искусственную фразировку и интонацию, по-своему переритмовывает слово за счет выдвижения безударных слогов (Якобсон P.O. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским. Берлин, 1923. 101—112).в сон непробудный» (1−44), «И в лице твоем, полном движенья» (1−44), «Как пройдешь ты тяжелый свой путь» (1−44), «Не нагнать тебе бешеной тройки» (1−44), — и в любовных стихах, где те же местоимения выносятся на метрически сильные места: «Я не люблю иронии твоей» (1−75), «А нам с тобой, так горячо любившим» (1−75), «Свидание продлить желаешь ты» (1−75), «Как ты кротка, как ты послушна» (П-31), «Я посетил твое кладбище» (И-32), «И образ твой светлей и чище» (И-32), «Встречался грустно я с тобой» (П-32), «Ни смех, ни говор твой веселый» (П-32), «Забудусь, ты передо мною» (П-32). Здесь еще один важный момент: часто говорят о том, что употребление метрически двойственных слов на сильных позициях — знак ослабления ударности, формирования волнового ритма стиха. «Ослабление» — термин из области экспериментальной фонетики, к стиховедению он имеет малое отношение (ср. давний спор о стихо-сложении и стихо-произнесении). Ритмическое выделение сильных мест остается неизменным, с какой бы экспираторной энергией или длительностью мы ни произносили (вслух или про себя) определенные звуки. Следовательно, все дело в том, почему в двусложных размерах местоимения акцентируются гораздо чаще, чем в трехсложниках. Полезно задуматься: что утрачивает текст с потерей местоимений.
1? Какие языковые функции ослабляются в нем? Очевидно, две: дейктическая (отсылка к участникам данного акта речи — говорящему, слушающему, а также к объекту, на который направлен указательный жест говорящегоотсылка к речевой ситуации, выражение пресуппозиции существования объекта в восприятии говорящего и слушающего, соотнесение с определенным референтом) и анафорическая (отсылка к данному высказыванию или к тексту, в который оно входит, — к его предыдущему или последующему месту). Текст, Условно говоря. Атонирование местоимений, параллельно с выдвижением других, полнозначных слов, неизбежно ведет к «проглатыванию» их при произнесении — ускорению чтения (ср. с терминологией А. Белого в «Символизме»). См.: Крылов А., Падучева Е. В. Местоимение // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.С. 294—295. См. также многочисленные работы, посвященные анализу семантики местоименийнапр.: Селиверстова О. Н. Местоимения в языке и речи. М., 1988; Левин Ю. И. О семантике местоимений // Проблемы грамматического моделирования. М., 1973; Откупщикова М. И. Местоимения современного русского языка в пренебрегающий местоимениями, во-первых, намеренно противится своему соотнесению с конкретной речевой ситуацией, с внеязыковой действительностью.
а во-вторых, разрушает собственную логическую связность, последовательность в изложении мыслей. Текст, выделяющий местоимения, отводящий им ключевые ритмические позиции стихотворного ряда, поступает противоположно. И утрата связи с действительностью.
(остранение), и нарушение привычной языковой сочетаемости, как показали в свое время русские формалисты, являются важнейшими признаками художественного произведения, лежащими в основе формирования поэтического языка. Нивелирование местоимений, конечно, не превращает стихотворение в хаотический набор звуковоно ослабляет устоявшуюся логику развертывания текста, меняет систему отношений между словами, а также между самим текстом и реальностью. На первый план выходят иные, собственно стиховые механизмы смыслообразования. Трехсложные размеры оказываются в известной мере более «поэтическими», чем двусложные, сама их структура представляет выгоднейшие возможности для формирования ассоциативных связей, в большей степени способствует созданию художественного эффекта. Поэтому, напр., трехсложники и сформировавшиеся на их основе дольники так близки к народной песне, романсу и т. д.
. В основе каждой из этих тонических систем «смыслового стихосложения» лежит по существу счет «значимых выражений». структурно-семантическом аспекте. Л., 1984; Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985. Могут возразить: независимо от местоимений, связь с внеязыковой действительностью сохраняют полнозначные слова стихотворного текста. Это не вполне так. Язык отражает реальность в совокупности всех своих элементов. Выпадение тех из них, которые обеспечивают внутреннюю связность системы, приводит к ее нестабильности и непредсказуемости. Проще становится образование новых связей, достигаемое встраиванием языковых элементов в особую стиховую структуру. Т. е. для кристаллизации «эстетического значения» слова, если понимать его как функцию одной смысловой единицы к другой. Речь не идет здесь об оценке трехсложников как «лучших» стихов и — потенциально — о запрете на двусложникн (ср., напр., у Н. Г. Чернышевского статью «Естественность всех вообще ломоносовских стоп в русской речи» и вторую статью «Сочинений А. Пушкина. Изд. П. В. Анненкова»). Скорее — о двух равновозможных стратегиях текстопорождения, оказавшихся востребованными в разные поэтические эпохи. См.: Гаспаров М. Л. Русский народный стих в литературных имитациях // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1975. V. 19. P. 77−107. В этом смысле эволюция русского литературного стиха есть движение к стиху народному, обозначенное в свое время еще Тредиаковскнм. Не будучи готова сразу, с Вернемся теперь к вопросу о специфике ритмической природы трехсложных и двусложных размеров. Определение ударных и безударных слов в стихотворном ряду всегда будет неизбежно условным — ведь «безударные» слова, напр., оказываются безусловно ударными при попадании на рифмув трехсложных размерах, в отличие от двусложных, многие «безударные» слова на сильных позициях воспринимаются как ударяемые и проч. Дело не в ударениях как таковых, дело в специфике распределения разных категорий слов по сильным и слабым позициям стиха, дело в разных способах семантического моделирования строки. В трехсложниках ритмически выделяются полнозначные слова, между которыми — под влиянием закона поэтической аналогии и благодаря пропуску посредствующих звеньев — устанавливаются непредсказуемые с языковой точки зрения ассоциативные.
1- в двусложниках — полузнаменательные и служебные части речи (даже формально «безударные», в силу самого своего частого попадания на метрически сильные позиции стихотворного ряда), подчеркивающие логико грамматическую последовательность развертывания текста, прорисовывающие языковые узлы и скрепы в движении лирического сюжета. Думается, что только с учетом этих принципов дальнейшее изучение взаимосвязи ритмической эволюции и формирования семантических моделей поэтического языка будет плодотворным. момента своего становления в XVIII веке, воспринять логику «смыслового стихосложения», русская поэзия вырабатывает, с оглядкой на европейскую традицию, сложную систему ритмических ограничений, в недрах которой медленно вызревают принципы, издавна знакомые народные стиху (при таком подходе безраздельное полуторавековое господство в России двусложных размеров оказывается исторически обусловленной и переходной стадией генерального развития стиха). К началу XX века трехсложные размеры настолько прорастают изнутри предлагаемыми самой стихотворной структурой потенциями смыслообразования, что раскалывают сковывающую их скорлупу и — особым путем, в полном сознании новых сил и возможностей — приводят русское стихосложение к тоническому принципу счета «значимых выражений». Даже немногочисленные приведенные выше примеры трехсложных строк Пастернака, будучи вырваны из контекста, поражают своей несогласованностью, производят впечатление случайного подбора слов. За индивидуальными особенностями поэтического стиля здесь отчетливо проступает системное разрушение языковых механизмов соотнесения частей стихотворного рядаср. с введенным Якобсоном понятием «обособляющей ритмической инерции» нового стиха, чрезвычайно повышающей самостоятельную ценность каждого словесного ударения и ведущей к созданию особого синтаксиса, по законам которого словесная группа, в обычной речи подчиненная одному сильному ударению, разрывается на отдельные равноправные слова (Якобсон P.O. О чешском стихе…).
Список литературы
- Блок А.А. Собрание сочинений: В 8 тт. М., Л., 1960—1963.
- Богданович И.Ф. Собрание сочинений и переводов: В 6 чч. М., 1908—1910.
- Брюсов В.Я. Стихотворения и поэмы. М., 1961. — 912 с.
- Гиппиус З.Н. Стихотворения. М., 1999. — 589 с.
- Дельвиг А.А. Полное собрание стихотворений, Л., 1959. — 369 с.
- Державин Г. Р. Сочинения: В 7 тт. / С объяснит, примеч. Я. Грота. 2-е изд.СПб., 1868—1878.
- Есенин А. Стихотворения. Л., 1956. — 438 с.
- Жуковский В.А. Полное собрание сочинений: В 3 тт. Пг., 1918.
- Иванов В.И. Стихотворения и поэмы. М., 1978. — 560 с.Ю.Иванов Г. В. Стихотворения. М., 2005. — 766 с. П. Кантемир А. Д. Собрание стихотворений. Л., 1956. — 543 с.
- Карамзин Н.М. Сочинения: В 8 тт. М., 1803—1804.
- Карамзин Н.М. Полное собрание стихотворений. М.-Л., 1966. — 273 с.Н.Лермонтов М. Ю. Сочинения: В 6 тт. М.-Л., 1954—1957.
- Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений: В 10 тт. М.-Л., 1950—1957.
- Мерзляков А.Ф. Стихотворения. Л., 1958. — 327 с.
- Минаев Д.Д. Собрание стихотворений. Л., 1947. — 489 с.
- Михайлов М.Л. Собрание стихотворений. Л., 1969. — 384 с.
- Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем: В 15 тт. Л., 1981—1982.
- Никитин И.С. Полное собрание стихотворений. М.-Л., 1965. — 612 с.
- Пастернак Б.Л. Полное собрание стихотворений и поэм. СПб., 2003. —798 с.
- Полонский Я.П. Полное собрание стихотворений: В 5 тт. СПб, 1896.
- Полонский Я.П. Стихотворения и поэмы. Л., 1935. — 548 с.
- Поэты 1840−1850-х годов. М., 1972. — 544 с.
- Северянин И. Стихотворения. Л., 1978. — 502 с.
- Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1975. — 680 с.
- Сумароков А.П. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе: В 6 тт.М., 1787.
- Сумароков А.П. Стихотворения. Л., 1935. — 488 с.
- Толстой А.К. Полное собрание стихотворений: В 2-х тт. Л., 1984.ЗО.Тредиаковский В. К. Сочинения и переводы, как стихами, так и прозою: В 2 тт. СПб, 1752.
- Фет А. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1959. — 900 с.
- Херасков М.М. Творения: В 12 чч. М., 1796—1803.Исследования
- Аленчев А.А. Никитин — поэт некрасовской школы // Уч. записки ГорноАлтайского пед. ин-та. Вып. 3. Т. 1. 1959. 144—179.
- Альфонсов В. Поэзия Бориса Пастернака. Изд. 2-е. СПб., 2001. — 381 с.
- Андреевский А. Книга о смерти. М., 2005. — 670 с.
- Артюшков А. Звук и стих. Пг., 1923. — 35 с.
- Баевский B.C. Некрасов о стихе // Науч. труды Ярославского пед. ин-та.1976. Вып. 43. 90— 102.
- Баевский B.C. О соотношении метрических систем русской поэтическойречи // Н. А. Некрасов. Тезисы докладов и сообщений. Кострома, 1971. 109—110.
- Баевский B.C. Стих русской советской поэзии. Смоленск, 1972. — 145 с.
- Баевский B.C. Песенные структуры в некрасовском стихе // Некрасовскийсборник. Калининград, 1972. 114—1117.
- Баевский B.C. Типы строфической организации стихотворенийНекрасова//Некрасовский сборник. Калининград, 1972. 106—109.
- Бахор Т.А. Из метрического репертуара Л. А. Мея: соотношение систем иметров // Проблемы стиховедения и поэтики. Алма-Ата, 1990. 128—129.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. — 318с.
- Вельская Л.Л. О полиметрии и полиморфности (на материале поэзииС. Есенина) // Проблемы теории стиха. Л., 1984. 99—109.
- Белый А. Символизм. Книга статей. М., 1910. — 633 с.
- Белый А. О художественной прозе // Горн. 1919. Кн. П-Ш. 49—55.
- Благой Д.Д. Мир как красота // Фет А. А. Вечерние огни. М., 1971. 495—635.
- Бобров П. Новое о стихосложении А. Пушкина. М., 1915. — 39 с.
- Бобров С П. Записки стихотворца. М., 1916. — 92 с.
- Божидар Гордеев Б. П. Распевочное единство. О размерах русскогостихосложения. М., 1916. — 86 с.
- Борисова И.М. Графический облик поэзии: «лесенка», курсив, графическийэквивалент текста (На материале поэзии Н. А. Некрасова, его предшественников и современников). Автореф. дисс.. к. филол. наук. Оренбург, 2003. — 2 1 с.
- Брик О. Ритм и синтаксис // Новый ЛЕФ. № 6. 1927. 33—39.
- Бродский Н.Л. Проза «Записок охотника» // Тургенев и его время. Сб. 1., М.- Пг., 1923. 193—199.
- Бройтман Н. Русская лирика XIX—XX вв.. в свете исторической поэтики: субъектно-образная структура. М., 1997. —234 с.
- Брюсов В. Об одном вопросе ритма (По поводу книги Андрея Белого"Символизм") // Аполлон. № 11. 1910. 52—60.
- Брюсов В. Краткий курс науки о стихе. Ч. I. Частная метрика и ритмикарусского языка. М., 1919. — 131 с.
- Брюсов В. Основы стиховедения. М., 1924. — 139 с.
- Бухаркин П.Е. Риторика и смысл (очерки). СПб., 2001. — 168 с.
- Бухштаб Б.Я. Начальный период сатирической поэзии Некрасова (1840—1845) // Некрасовский сборник. 2. М.-Л., 1956. 102—150.
- Бухштаб Б.Я. Н. А. Некрасов: Проблемы творчества. Л., 1989. — 350 с.
- Вацуро В.Э. Некрасов и петербургские словесники: из записок филолога //Русская речь. № 5. М., 1993. 8—13.
- Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989. — 404 с.
- Викери В. К вопросу о ритме цезурного 5-стопного ямба Пушкина //1.ternational Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 14. 1971. P. 134—175.
- Вишневский К.Д. Становление трехсложных размеров в русской поэзии //Русская советская поэзия и стиховедение. М., 1969. 207 — 217.
- Вишневский К.Д. Русская метрика XVIII века // Уч. записки Рязанскогогос. пед. ин-та. Серия филологическая. Т. 123. 129—258.
- Вишневский К.Д. Архитектоника русского стиха XVIII — начала XIXвеков // Исследования по теории стиха. Л., 1978. 48—67.
- Вишневский К.Д. Введение в строфику // Проблемы теории стиха. Л., 1984.С. 37—57.
- Вишневский К.Д. Нетождественные строфы в русской поэзии XVIII—XIX вв.еков. Классификация и функции // Онтология стиха / Сб. ст. памяти В. Е. Холшевникова. СПб., 2000. 51—62.
- Востоков А.Х. Опыт о русском стихосложении. Изд. 2-е, значительнопополненное и исправленное. СПб., 1817. — 167 с.
- Гаспаров М.Л. Русский трехударный дольник XX в. // Теория стиха. Л., 1968. 59—106.
- Гаспаров М.Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика. М, 1974.— 487 с.
- Гаспаров М.Л. Семантический ореол метра: к семантике русскоготрехстопного ямба // Лингвистика и поэтика. М., 1979. 282—308.
- Гаспаров М.Л. Семантический ореол трехстопного амфибрахия //Проблемы структурной лингвистики. 1980. М., 1982. 174—192.
- Гаспаров М.Л. Еще раз к спорам о русской силлабо-тонике // Проблемытеории стиха. Л., 1984. 174—178.
- Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. М., 1984. — 319 с.
- Гаспаров М.Л. Русские стихи 1890-х —1925-го годов в комментариях. М., 1993. — 2 7 1 с.
- Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. — 477 с.
- Гаспаров М.Л. Избранные труды: В 3 тт. М., 1997.
- Гаспаров М.Л. Метр и смысл. Об одном механизме культурной памяти. М., 2000. — 289 с.
- Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализы, интерпретации, характеристики. СПб., 2001. — 480 с.
- Гаспаров М.Л. Синтаксическая структура стихотворной строки //Славянский стих: Лингвистическая и прикладная поэтика. М., 2001. 130—137.
- Гаспаров М.Л., Тарлинская М. Г. Ритмика трехсложных размеровНекрасова // Некрасовский сборник. Калининград, 1972. 110—113.
- Гаспаров М.Л., Скулачева Т. В. Статьи о лингвистике стиха. М., 2004. —288 с.
- Гвоздиковская Т.С. Судьбы трехсложных размеров в современной поэзии //Русское стихосложение. Традиции и проблемы развития. М., 1985. 292—300.
- Гин М. М. От факта к образу и сюжету. М., 1971. — 303 с.
- Гиндин С И. Брюсовское описание метрики русского стиха с точки зрениясовременной типологии лингвистических описаний // Slavic Poetics: Essays in Honor of Kiril Taranovsky. The Hague- Paris. 1973. P. 151—160.
- Гинзбург Л.Я. О лирике. Изд. 2-е, доп. Л., 1974. — 407 с.
- Гинцбург Д.Г. О русском стихосложении. Пг., 1915. — 269 с.
- Гиршман М.М. Принцип единства филологии в стиховедении // Русскоестихосложение. Традиции и проблемы развития. М., 1985. 60—68.
- Голенищев-Кутузов И. Н. Словоразделы в русском стихосложении //Вопросы языкознания. № 4. 1959. 20—34.
- Гроссман Л.П. Собрание сочинений: В 5 тт. Т. 3. М., 1928. — 256 с.
- Гуковский Г. А. Неизданные произведения Некрасова в истории русскойпрозы сороковых годов // Некрасов Н. А. Жизнь и приключения Тихона Тросникова. М.- Л., 1931. 347—381.
- Дозорец Ж.А. Синтаксическая структура строки и ее членение насинтагмы // Актуальные вопросы грамматики и лексики русского языка. М., 1978. 79—96. ПО. Евгеньев-Максимов В. Е. Некрасов как человек, журналист и поэт. М.- Л., 1928. — 3 4 1 с .
- Евгеньев-Максимов В. Е. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова: В 3 тт. М.-Л., 1947—1952.
- Евгеньев-Максимов В. Е. Творческий путь Н. А. Некрасова. М.- Л., 1953. —283 с.
- Жирмунский В.М. Теория стиха. Л., 1975. — 664 с.
- Жовтис А.Л. Проблема свободного стиха и эволюция стиховых форм.Автореф. дисс.. д. филол. наук. Киев, 1975. — 45 с.
- Журавлева А.И. Некрасов и Лермонтов (сравнительный анализ ритмов ирифм) // Вестник Московского ун-та. Серия 10. Филология. № 1. 1972. 12—21.
- Западов В.А. Русский стих XVIII — начала XIX в. Ритмика. Лекция. Л., 1974. — 5 6 с.
- Илюшин А.А. Из наблюдений над стихом Некрасова // Поэзия любви игнева. Некрасовский сб. V. Л., 1973. 186—201.
- Илюшин А.А. Н. А. Добролюбов как мастер стиха // Вестник Моск. ун-та.Серия 9: Филология. 41. № 2. 1986. 21—27.
- Илюшин А.А. О метрике силлабо-тонического стиха // Советскоеславяноведение. 22. № 5. 1986. 49—56.
- Казарцев Е.В. Новые материалы к исследованию генезиса русскойсиллабо-тоники // Славянский стих: Лингвистическая и прикладная поэтика. М., 2001. 63—71.
- Казарцев Е.В. Ритм и язык в генезисе русской силлабо-тоники (наматериале русского и немецкого стиха). Автореф. дисс.. к. филол. наук. СПб, 2001. — 2 3 с.
- Казарцев Е.В. Ритмика первой духовной оды Ломоносова в контекстепроблемы генезиса русской силлабо-тоники // Формальные методы в лингвистической поэтике. СПб, 2001. 37—48.
- Касторский СВ. Некрасов и Фет // Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та. Т. 2.Вып. 1. 1936. 250—288.
- Ковзун А.А. Возможный подтекст Б. Садовского в «Двенадцатом ударе"М. Кузмина на фоне семантической традиции четырехстопного хорея. Кадыево, 2006. — 108 с.
- Колмогоров А.Н., Прохоров А. В. К основам русской классическойметрики // Содружество наук и тайны творчества. М., 1968. 397—432.
- Кондаков И.В. Н. А. Некрасов // „Натуральная школа“ и ее роль встановлении русского реализма. М., 1997. 210—227.
- Кормилов СИ. Маргинальные системы русского стихосложения. М., 1995.
- Краснов Г. В. Н. А. Некрасов и А. Л. Боровиковский (к изучениюнекрасовской школы) //Некрасовский сборник. X. Л., 1988. 69—74.
- Краснов Г. В. Мощный двигатель нашего умственного развития: Некрасови Добролюбов // В мире Добролюбова. М., 1989. 261—285.
- Красноперова М.А., Казарцев Е. В., Мухин А. С. К истокам ритмикирусского силлабо-тонического стиха (проблема межъязыковой коммуникации) // Языки науки — языки искусства. М., 2000.
- Крученых А. Сдвигология русского стиха: Трахтат обижальный (Трахтатобижальный и поучальный). М., 1922.
- Крученых А. 500 новых острот и каламбуров Пушкина. М., 1924. — 72 с.
- Ларин Б.А. О разновидностях художественной речи (семантическиеэтюды) // Эстетика слова и язык писателя. Л., 1974. — 285 с.
- Левин Ю.Д. М. Михайлов. „Пятеро“ // Поэтический строй русской лирики.Л., 1973. 174—188.
- Левин Ю.Д. Русские переводчики XIX века и развитие художественногоперевода. Л., 1985. — 299 с.
- Левин Ю.И. О некоторых чертах плана содержания в поэтическихтекстах // Структурная типология языков. М., 1966. 199—215.
- Левин Ю.И. Семантический ореол метра с семиотической точки зрения //Finitis XII lustris: Сб. статей к 60-летию Ю. М. Лотмана. Таллинн, 1982. 151—154. 92—123.
- Лилли И. Динамика русской строфики и семантики // Лилли И. Динамикарусского стиха. М., 1997.
- Лотман М.Ю. Русский стих: Семантика стихотворного метра в русскойпоэзии второй половины XIX в. (А. А. Фет и Н. А. Некрасов) // Slowianska metryka prownawcza. Ill: Semantyka form wierszowych. Wroclaw, 1988. S. 105—144.
- Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. — 846 с.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970. — 384 с.
- Ляпин С Е. Ритмико-синтаксическая структура строфы (к проблемеизучения вертикального ритма русского 4-стопного ямба) // Славянский стих: Лингвистическая и прикладная поэтика. М., 2001. 138—150.
- Ляпина Л.Е. Лирический цикл в русской поэзии 1840-х—1860-х годов.Автореф. дисс.. к. филол. наук. Л., 1977. — 12 с.
- Максимов Д.Е. Русские поэты начала века. Л., 1986. — 404 с.
- Малер Л.М. Семантическая оппозиция „дактиль — анапест“ в раннейпоэзии А. Блока// Модели культуры: Сб. посвященный 60-летию B. Баевского. Смоленск, 1992. 65—79.
- Мерлин В.В. Грамматика метра (К семантике трехсложных размеров) //Проблемы стихотворного стиля. Алма-Ата, 1987. 17—28.
- Меус X. Метрический репертуар А. К. Толстого // Материалы XXVI науч.студ. конф. Тарту, 1971. 82—84.
- Минц З.Г. Поэзия Александра Блока. СПб., 1999. — 728 с.
- Муратов А. Б. Стихотворение А. А. Фета „Шепот, робкое дыханье.“ //Анализ одного стихотворения: Межвуз. сб. Л., 1985. 162—171.
- Назаретская К.А. Некрасов и демократическая поэзия „Свистка“ и"Искры» // Уч. зап. Казанского ун-та. Т. CXVI. Кн. 1. 1956. 288—293.
- Новинская Л.П., Руднев П. А. Из наблюдений над стихом Ф. И. Тютчева: Метрические раритеты // Лотмановский сборник. Т. 1 М.- Тарту,. 1995. 528—535.
- Озмитель Е., Гвоздиковская Т. Материалы к метрическому репертуарурусской лирической поэзии (1957−1968 гг.) // Научные труды филологического факультета Киргизского ун-та. Вып. 16. Фрунзе, 1970. 113—121.
- Орлицкий Ю.Б. О природе русского свободного стиха (к постановкевопроса) // Русское стихосложение. Традиции и проблемы развития. М., 1985. 306—325.
- Орлова О. А. Стих Я. Полонского и проблемы ритмической эволюциирусского стиха XIX в. Автореф. дисс.. к. филол. наук. Донецк, 1973. — 21с.
- Орлова О.А. Своеобразие ритмического движения в трехсложных размерахА. Твардовского (на примере трехстопного амфибрахия) // Русское стихосложение: Традиции и проблемы развития. М., 1985. 301—306.
- Откупщикова М.И. Местоимения современного русского языка вструктурно-семантическом аспекте. Л., 1984. — 87 с.
- Очерки по поэтике Пушкина. Берлин, 1923. — 220 с.
- Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью(Референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985. — 271 с.
- Падучева Е.В. Семантические исследования (Семантика времени и вида врусском языке. Семантика нарратива). М., 1996. — 464 с.
- Пейсахович М.А. Двустишные формы в поэзии Некрасова //Филологические науки. № 6. 1971. 13—28.
- Пейсахович М.А. Строфика Некрасова // Поэзия любви и гнева. Некрасовский сборник. V. Л., 1973. 202—232.
- Переселенков А. Город роковой и Некрасов // Некрасов. Памятка ко дню100-летия рождения. Пб., 1921. 22—24.
- Пешковский A.M. Принципы и приемы стилистического анализа и оценкихудожественной прозы // Ars poetica Вып. I. М., 1927. 7—28.
- Плахотишина В.П. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Киев, 1956. —155 с.
- Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. — 652 с.
- Пяст Вл. Современное стиховедение. Ритмика. Л., 1931. — 375 с.
- Розанов И.Н. Отзвуки Лермонтова // Венок Лермонтову. М., Пг. 1914.С. 237—289.
- Розанов И.Н. Стихотворные размеры в донекрасовской поэзии и уНекрасова//Творчество Некрасова. Сб. статей. М., 1938. 5—48.
- Рубинова Е. О принципах подхода Михайлова к переводам произведенийГейне // Уч. зап. кафедры рус. и зарубеж. лит-ры Казахского гос. ун-та. Вып. 2. Алма-Ата, 1958. 69—87.
- Руднев П.А. Из истории метрического репертуара русских поэтов XIX —начала XX веков // Теория стиха. Л., 1968. 107—144.
- Руднев П. А. Метрика А. Блока. Автореф. дисс.. к. филол. наук. Тарту, 1969. — 2 5 с.
- Руднев П.А. Метр и смысл // Metryka slowianska. Wroclaw, 1971. S. 77—88.
- Руднев П.А. Метрический репертуар А. Блока // Блоковский сборник.Вып.2. Тарту, 1972. 218—267.
- Руднев П.А. Из наблюдений над стихом А. Блока // Slavic Poetics: Essays inHonor of Kiril Taranovsky. The Hague- Paris, 1973. P. 389—393.
- Руднев П.А. Метрический репертуар В. Брюсова // Брюсовские чтения.1971. Ереван, 1973. 309—349.
- Руднев П.А. Метрический репертуар Н. Некрасова // Уч. зап. Тартускогоун-та. Вып. 358. Тарту, 1975. 93—121.
- Руднев П.А., Руднев В. П. Типология строфических композиций в русскомстихе в сопоставлении с типологией композиций метрических // Стилистика художественной речи. Калинин, 1982. 137—154.
- Рязанова Л.С. Михайлов — переводчик немецкой поэзии (проблемапередачи поэтического стиля). Автореф. дисс.. к. филол. наук. Алма-Ата, 1979. — 2 3 с.
- Салькова Л.А. Михайлов и поэты-петрашевцы // Уч. зап. Краснодарскогогос. пед. ин-та. Вып. 18. 1956. 68—90.
- Сапогов В.А. Анализ художественного произведения (поэмаН. А. Некрасова «Мороз, Красный Нос»). Ярославль, 1980. — 64 с.
- Селиверстова О.Н. Местоимения в языке и речи. М., 1988. — 151с.
- Серман И.З. Поэтический стиль Ломоносова. М.- Л., 1966. — 259 с.
- Скатов Н.Н. Поэты некрасовской школы. Л., 1968. — 224 с.
- Скатов Н.Н. Некрасов и русская лирика второй половины XIX в. — началаXX в. Автореф. дис.. д. филол. наук. Л., 1970. — 31с.
- Скатов Н.Н. Некрасов. Современники и продолжатели. М., 1986. — 334 с.
- Скулачева Т.В. Лингвистическая структура стихотворной строки: Частиречи и ритмика // Славянское языкознание: Доклады российской делегации. М., 1998. 508—520.
- Скулачева Т.В. Ритм и грамматика в стихе // Славянский стих: Лингвистическая и прикладная поэтика. М., 2001. 121—129.
- Смирнов И.П. О ритмико-фразовых уподоблениях в стихах // Теория стиха.Л., 1968. 218—225.
- Смирнов И.П. Порождение интертекста: (Элементы интертекстуальногоанализа с примерами из творчества Б. Л. Пастернака). СПб., 1995. — 205 с.
- Станкеева З.В. Сатира поэтов «некрасовской школы». Автореф. дисс.. к.филол. наук. М., 1954. — 18 с.
- Степанов Н.Л. Некрасов — художник // Н. А. Некрасов. 1878— 1838.Сб. статей и материалов. Л., 1938. 82—146.
- Тарановский К.Ф. Руски дводелни ритмови. Београд, 1953. — 376 с.
- Тарановский К.Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000. — 432 с.
- Тарлинская М.Г. Ритм и синтаксис: К вопросу о методологии анализа //Славянский стих: Лингвистическая и прикладная поэтика. М., 2001. 41—49.
- Творчество Некрасова: исторические истоки и жизнь во времени.Межвуз. сб. Ярославль, 1988. — 131 с.
- Тимофеев Л.И. Теория стиха. М., 1939. — 232 с.
- Тимофеев Л.И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958. —415 с.
- Томашевский Б.В. Русское стихосложение. Метрика. Пг., 1923. — 156 с.
- Томашевский Б.В. Рец. Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка.Л., 1924 // Русский современник. Кн. 3. 265—268.
- Томашевский Б.В. О стихе. Л., 1929. — 326 с.
- Томашевский Б.В. Стих и язык. Филологические очерки. М.-Л., 1959. —471 с.
- Томашевский Б.В. О шестистопном ямбе у Пушкина // Труды по знаковымсистемам — IX / Уч. зап. ТГУ. Вып. 422. Тарту, 1977. 99—112.
- Томашевский Б.В. Избранные работы о стихе. СПб.- М., 2008. — 448 с.
- Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. М., 1987. — 559 с.
- Федотов О.И. Некоторые замечания к жанрово-композиционной структуресатиры Некрасова «Балет» // Вопросы художественной структуры произведений русской классики. Владимир, 1983. 81—96.
- Фролова Т.Д. Незавершенный сатирический цикл Н. А. Некрасова //Некрасовский сборник. I. М.- Л., 1951. 169—192.
- Хворостьянова Е.В. Условия ритма: Историко-типологические очеркирусского стиха. СПб., 2008. — 463 с.
- Холшевников В.Е. Стиховедение и поэзия. Л., 1991. — 254 с.
- Холшевников В.Е. Основы стиховедения. Метрика. СПб., 1996. — 180 с.
- Царькова Т.С. Становление поэтики Н. А. Некрасова (Стихотворныепроизведения 1840—1845 гг.). Автореф. дисс.. к. филол. наук. Л., 1978. — 18 с.
- Царькова Т.С. К творческой истории «Осенней скуки» // Некрасовскийсборник. IX. Л., 1988. 90—91.
- Царькова Т.С. Русская стихотворная эпитафия XIX—XX вв.: Источники.Эволюция. Поэтика. СПб., 1999. — 200 с.
- Червяковский А. К проблематике жанров поэзии Некрасова // Уч. зап. Горьковского гос. пед. ин-та. Вып. 14. 1950. 66—100.
- Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: В 15 тт. М, 1939—1953.
- Чудовский В.А. О ритме пушкинской «Русалки» // Аполлон. № ½. 1914.С. 108—121.
- Чудовский В.А. Несколько мыслей к возможному учению о стихе //Аполлон. № 8/9. 1915. 55—95.
- Чудовский В.А. Несколько утверждений о русском стихе // Аполлон.№ 4/5. 1917. 58—69.
- Чуковский К.И. Собрание сочинений: В 2 тт. М., 1990.
- Чуковский К.И. Мастерство Некрасова. М., 1952. — 644 с.
- Чуковский К.И. Некрасов как художник // Известия АН ОЛЯ. № 1—2.1938. 25—42.
- Шапир М.И. Из истории русского «балладного стиха» // Russian Linguistics.Vol. 17. 1993. P. 57—84.
- Шапир М.И. Эстетика небрежности в поэзии Пастернака // Славянскийстих. VII. Лингвистика и структура стиха. М., 2004. 233—280.
- Шапир М.И. Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII- XX веков. Кн. 1. М, 2000. — 536 с.
- Шенгели Г. А. Трактат о русском стихе. Ч. I. Органическая метрика. Изд. 2е, перераб. М.- Пг., 1923. — 184 с.
- Шенгели Г. А. Техника стиха. Практическое стиховедение. Изд. 3-е, перераб. М., 1940. — 136 с.
- Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. — 188 с.
- Эйхенбаум Б.М. Мелодика русского лирического стиха. Пб., 1922. — 200 с.
- Эйхенбаум Б.М. Поэзия Полонского // Полонский Я. П. Стихотворения ипоэмы. Л., 1935. V—XXXI.
- Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1969. — 503 с.
- Энгельгардт Н.А. Мелодика тургеневской прозы // Творческий путьТургенева. Пг., 1923. 9—63.
- Эткинд Е.Г. Материя стиха. СПб., 1998. — 506 с.
- Эткинд Е.Г. Там, внутри: О русской поэзии XX века: Очерки. СПб., 1996.— 567 с.
- Юрьева О.Ю. Взаимодействие поэзии и прозы в творчествеМ. Л. Михайлова. Автореф. дисс.. к. филол. наук. М., 1986. — 24 с.
- Якобсон P.O. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении срусским. Берлин, 1923. — 120 с.
- Якобсон P.O. Об односложных словах в русском стихе. // Slavic Poetics. TheHague, 1973. P. 239—252.
- Якобсон P.O. Работы по поэтике. М., 1987. — 460 с.
- Bailey J. Three Russian lyric folk song meters. Columbus, 1992. — 429 p.
- Klenin E. Functions of rhyme in the poetry of Fet // International Journal ofSlavic Linguistics and Poetics. XXXV—XXXVI. 1987. P. 32—67.
- Jones R.G. Language and prosody of the Russian folk epic. The Hague- Paris, 1972. — 1 0 5 p.
- Maslennikov O.A. Rhythm patterns in the trisemic verse of Andrej Belyj // «ForRoman Jakobson». The Hague, 1956. P. 93—112.
- TarHnskaja M. English verse: Theory and history. The Hague. 1976. — 351 p.
- TarHnskaja M. Rhythm-Morphology-Syntax-Rliythm// Style. 18. 1984. P. 1—26.
- TarHnskaja M. Rhythm and Meaning. «Rhythmical Figures» in English IambicPentameter. Their Grammar and Their Links with Semantics. Style. 21. 1987. P. 1−34.
- Tarlinskaja M. Shakespeare’s verse: Iambic pentameter and the poet’sidiosyncrasies. N. J. 1987. — 383 p.
- Tarlinskaja M. Meter and meaning: Semantic associations of the English DolnikVerse Form // Style. 23. 1989. P. 238—260.
- Лапшина H., Романович И., Ярхо Б. Из материалов «Метрическогосправочника к стихотворениям Лермонтова» // Вопросы языкознания. № 2. 1966. 125—137.
- Лапшина Н.В., Романович И. К., Ярхо Б. И. Метрический справочник кстихотворениям А. Пушкина. М.- Л., 1934. — 143 с.
- Русское стихосложение XIX в. Материалы по метрике и строфике русскихпоэтов. М., 1979. — 455 с.
- Словарь русского языка: В 4 тт. / АН СССР, Ин-т рус. яз. Под ред.А. П. Евгеньевой. Изд. 3-е. М., 1985—1988.
- Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. — 685 с.