Художественные формы нравственно-религиозных исканий в европейской и американской литературе первой половины ХХ века
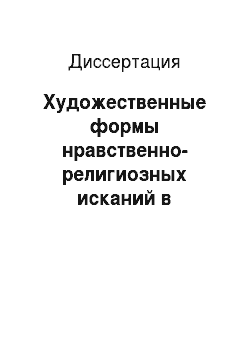
Томас Манн в статье «Путешествие по морю с Дон Кихотом» пишет: «Что бы ни говорили — христианство. является одним из двух устоев, на которых зиждется западная цивилизациявторойантичное Средиземноморье. Отрицание теми или иными из числа народов, объединенных западной цивилизацией, хотя бы одной из этих основных предпосылок нашей морали и образованности, или их обеих, повлекло бы за собой выход… Читать ещё >
Содержание
- Введение ^
- Глава I. Нравственно-религиозный кризис
- Франц Кафка
- Апьбер Камю
- Томас Манн
- Теодор Драйзер
- Глава II. Проблема эстетического познания истины
- Томас Стерн Элиот
- Уильям Фолкнер
- 3. Роберт Пенн Уоренн
- Уильям Голдинг
- Герман Брох
- Глава III. Литературные образы временного и вечного
- 1. Томас Стерн Элиот
- Уильям Фолкнер
- Марсель Пруст
- Томас Вулф
- Глава IV. Изображение антагонизма мира и идеала
- Томас Стерн Элиот
- Уильям Фолкнер
Художественные формы нравственно-религиозных исканий в европейской и американской литературе первой половины ХХ века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Данная работа является попыткой исследования важной и сложной проблемы — проблемы религиозных поисков в художественной литературе в эпоху религиозного кризиса первой половины XX века, а также попыткой увидеть глубинные (подчас неосознаваемые писателем) связи многовековой традиции христианства и современной прозы, поэзии и публицистики Запада.
Задача сама по себе настолько объемна, что, если бы даже существовало огромное количество работ на эту тему, то и тогда они бы не могли исчерпать вопроса. Но о таком количестве говорить не приходится. В отечественной науке по идеологическим причинам эта проблема не могла быть всерьез поставлена (хотя ведь так широко обсуждаемый в 60−70 годы вопрос о реализме и модернизме невозможно рассматривать без учета религиозного фактора), в западном же литературоведении долгое время господствовал формалистический и фрейдистский подходы. Несколько иначе обстоит дело в философии и эстетике XX века, которые гораздо больше внимания уделяли духовным проблемам, но там они звучат, как правило, в самом общем виде. Мы же ставим перед собой задачу исследования поэтики художественных текстов, во-первых, и во-вторых, сходства путей философской, публицистической и художественной мысли нашего времени.
Все это и определило актуальность и новизну данной работы.
Хотя мы живем в эпоху плюрализма, и стало общепринятым проявлять необычайную широту и гибкость суждений, считаем необходимым сразу же четко обозначить свою позицию: для нас важным является не столько христианская проблематика и не анализ религиозных исканий как таковых, сколько христианский подход к явлениям литературы. В этом мы опираемся на методологию русской религиозной философской критики (В.Розанов, Н. Бердяев, С. Франк и др.) и западной христианской критики (К.Брукс, Т. С. Элиот, Р. П. Уоррен, М. Новак, П. Тиллих и др.).
Христианский подход" в нашем понимании означает попытку объяснить с христианских позиций сложные явления творчества (а в XX веке почти все крупные писатели — сложные). Менее всего мы озабочены поисками библейских мотивов или символов, использование которых еще ни о чем не говорит. Их широкое присутствие в современном искусстве (особенно в кино и на телевидении) должно скорее настораживать, чем радовать. «Массовая культура» последних десятилетий имеет явную тенденцию спекулировать на Священном Писании, заимствуя оттуда лишь внешнюю сторону — сюжеты, образы — и лишая их глубокого смысла, а иногда и вкладывая прямо противоположный смысл.
Мы могли бы пойти и по иному пути — и выбрать писателей и серьезных, и явно обнаруживающих свою христианскую ориентацию (они не исключены из нашего исследования — У. Голдинг, Р. П. Уоррен и др.). Но цель работы в другом — проследить, как религиозный дух и христианский взгляд действуют на глубине сознания у самых различных художников и критиков первой половины XX века, подчас весьма далеких от христианства. Отрицание или спор с христианским учением, на наш взгляд, не менее интересны и показательны, чем его утверждение. Критерием выбора стал прежде всего масштаб дарования и глубина осознания современных процессов. Есть тесная связь между талантом и духовностью: чем крупнее личность, тем неизбежнее движется она к религиозным вопросам, хотя и не обязательно находит на них четкий ответ. Нельзя не вспомнить здесь размышлений Томаса Манна в начале романа.
Доктор Фаустус" о «темных и светлых гениях». Именно в этом состоит, на наш взгляд, мысль немецкого классика: талант ставит перед человеком задачу духовного вопрошания, а дальше — свобода выбора самой личности.
Целью данной работы является также — проследить единство философской, публицистической мысли и художественного творчества. В каждую эпоху наблюдается некоторое соответствие философии, критики и художественной литературы, но в XX веке оно особенно ощутимо. Одно из проявлений этого процесса — тяготение искусства к универсальным и обобщенным структурам — мифу, притче, аллегорииа также усиление аналитического элемента повествования.
Религиозное исследование культуры имеет долгие и славные традиции. Еще Св. Григорий Богослов, один из основателей Святоотеческого учения, советуя, как надо читать книги, писал: «. с муд-ростию собирай отовсюду полезное, с рассудительностию избегай всего, что в каждом писателе есть вредного, подражай работе мудрой пчелы, которая садится на всякий цветок, но весьма умно берет с каждого только полезное» (9, 291), т. е., по мнению Св. Григория Богослова, важен не столько предмет исследования, сколько позиция исследователя.
A.C. Пушкин считал, что «религия создала искусство и литературу, — все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от религиозного чувства. Без него не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности» .
В XX веке история религиозного истолкования искусства начинается с исследования явления кризиса. Впервые кризис в культуре был связан с религиозным кризисом в работах русских философов — Н. Бердяева, С. Булгакова, П. Флоренского и др.
Лекция Н. Бердяева «Кризис искусства» была прочитана в Москве в 1917 году, т. е. на восемь лет раньше знаменитой работы Ортеги-и-Гассета «Дегуманизация искусства». И у Н. Бердяева и у Ортеги-и-Гассета ведущая черта нового искусства определена как «дегуманизация», но религиозный подход позволил русскому философу гораздо глубже разобраться в причинах появления модернизма. «Мы присутствовали при кризисе искусства вообще, — пишет Бердяев, — при глубочайших потрясениях в тысячелетних его основах. Окончательно померк старый идеал классически прекрасного искусства и чувствуется, что нет возврата к его образам» (178, 3). «И затосковал человек в своем творчестве по органичности, по синтезу, по религиозному центру, по мистерии» (178, 5). Стремление к синтезу, по Бердяеву, одна черта современного искусства, другая — тяготение к анализу и разложению. Они представлены отчетливее всего в футуризме и кубизме. «Все более и более невозможно становится синтетически-целостное художественное восприятие и творчество» (178, 8). «.дух идет на убыль, а плоть дематериализуется». XX век, по Бердяеву, век движения и скоростей — «В мир победоносно вошла машина и нарушила вековечный лад органической жизни» (178, 13). Не во всем можно согласиться с Бердяевым (в частности, в том, что «новое искусство будет творить. в образах иной, более тонкой плоти», отказавшись от старой органики), но нельзя не отметить прозорливости философа, который предсказывал взрыв варварства на новой — технологической основе. Замечания Бердяева об утрате цельности как о ведущей черте нового искусства и о том, что кризис преодолеют те, кто знает «тайну цельности и тайну раздвоения» позволяет многое понять в творчестве таких художников, как Т. С. Элиот или Уильям Фолкнер.
Необходимость религиозного подхода очень убедительно обосновывает о. Павел Флоренский в работе «Иконостас». По мнению Флоренского, для определения культурных ценностей надо выйти за пределы культуры и найти критерий высший по отношению к ней, иначе мы будем вынуждены обожествить всю культуру и себя как ее носителей. Так и произошло, по мнению Флоренского, с западноевропейской гуманитарной цивилизацией. Высший критерий искусства, как считает П. Флоренский, можно найти только в религии. Искусство держится «теократической цельностью жизни — соками средневековых своих корней, и если бы вплотную стало вырывать из себя питающие его традиции, то пришло бы к простому самоуничтожению» (73, 137).
Исходя из этого, Флоренский предлагает теорию двух типов западноевропейской культуры — средневекового и возрожденческого — не как исторически закрепленных эпох, а как сквозных линий, проходящих через всю историю Старого Света. Средневековый тип — это цельность, активность, органичность, соборность, волевое начало, реализм (любопытно, что «реализмом» у Флоренского является близость искусства Христовой Истине). Возрожденческий типэто субъективность, раздробленность, пассивность, интеллектуализм, аналитичность, сенсуализм, отвлеченность, поверхностность. Возрожденческий тип со временем получает все более широкое распространение, и мы видим, как в культуре возрастает действие закона энтропии, хаосахаосу же противостоит Логос.
Религиозное объяснение расколотости современного сознания дал другой русский философ начала XX века — Иван Ильин. В статью «Путь к очевидности» он пишет: «Человек, находящийся в состоянии внутреннего раскола, есть несчастный человек. Напрасно было бы преклоняться перед Фаустом как перед сверхчеловеком только потому, что Гете сообщает о „живущих в его груди двух душах, желающих оторваться одна от другой“, и потому, что он решает подчиниться дьяволу, обещающему засыпать его земными наслаждениями. Люди восемнадцатого и девятнадцатого веков имели мужество осознать и громко выговорить унаследованный ими душевно-духовный раскол. Но это мужество внушило им самоуверенность, верховную гордость и вызывающую манеру держатьсяи в результате внутренний раскол выдавался и принимался за некое высшее достижение, за признак сверхчеловека и новой эпохи. Разногласие между верой и рассудком существовало в Европе уже давно. Но в дальнейшем постепенно сложилась апология разложения и распада, неприкрытое восстание против Бога и всего Божественного, систематическое опустошение жизни от всякой святыни и категорический разрыв с христианством» (26, 312−3).
Русская философская критика начала XX века дала религиозное объяснение декаданса. Сергий Булгаков в статье «Труп красоты» (1914) видит в кубизме демоническое начало: разложение гармонического целого на составные части есть форма богоборчества, живое превращается в мертвое, от красоты человеческого лица и тела остается лишь труп.
Н. Бердяев называет декаданс «великой усталостью», истощением сил старой европейской культуры, разрывом с корнями и почвой культуры — античностью и христианством.
В. Розанов в статье «О символистах и декадентах» связывает декаданс с отходом от философии «великого самоограничения», которая стала убывать в человечестве, начиная с Возрождения. В XIX веке этот процесс достиг огромных размеров. «Декаданс — это беспросветный эгоизм» , — пишет В. Розанов. Из литературы исчезает объективный мир, остается лишь человек, сведенный к Эго.
Ницше уже можно считать декадентом человеческой мысли. как Мопассана в некоторых заключительных чертах его «художества» -декадентом человеческого чувства" (210, 175). «Великий материк истории, — считает Розанов, — материк реальных дел. и особенно Церкви. — вот на берег чего никогда не может выползти это смрадное чудовище. Там, где поднимается монастырская стена, это движение неверных волн истории — окончится и отхлынет назад (210, 176).
Можно не соглашаться с концепцией Розанова, с резкостью его суждений, но нельзя не признать, что наряду с историческим и эстетическим подходами такой угол зрения дает еще одну систему координат и позволяет во всей полноте исследовать сложное явление декаданса и модернизма.
По мнению русского философа-эмигранта первой волны В. Вейдле искусство постепенно теряет органику, религиозную и национальную укорененность. Отсюда чувство «наготы, покинутости и страшного одиночества творчества, души». «Все только человеческое ниже человека» , — утверждает Вейдле в статье «Умирание искусства» (213, 288). «Когда потухает соборность, гаснет стиль» (213, 269). Романтизм есть уже утрата стиля.
Религиозный философ Н. Арсеньев ставит вопрос еще шире — о смысле культуры вообще. «Есть ли смысл в человеческом культурном творчестве и его достижениях, если они не только разрушались и разрушаются, но должны, по-видимому, когда-то окончательно погибнуть? На этот безнадежный, казалось бы, вопрос и ответ такой же безнадежный, если только нет точки опоры для этой культуры и этой жизни вне того, что уничтожается и проходит. От этого зависит решение всей проблемы смысла культуры» (3, 42). То есть Н. Арсеньев, как и П. Флоренский не считает культуру высшей духовной инстанцией, ведь культуру создают люди. «Есть ли Непреходящее и входит ли оно в нашу жизнь и нашу культуру, и связано ли оно как-либо с нашей культурой или, вернее, связана ли с ним наша культура и наша жизнь? Есть ли освящающая все наши искания непреходящая, неветшающая Цель, к которой мы идем? Есть ли Вечная Жизнь, есть ли Избыток Неумирающей Жизни, который обнимает все ценное, что существует, дает при этом и удовлетворение, и осуществление всем нашим благородным исканиям и нашей жажде Красоты и нашему стремлению к Истине, порывам, жертвам и нашей любви, и нашему отданию себя во имя любви, во имя Высшего? Есть ли это? Существует ли это? И если есть, то не есть ли эта исконная творческая Любовь, все объемлющая, все побеждающая, все исцеляющая — ответ на нашу жажду и на все лучшие устремления человечества? Есть ли такое вечное Да как цель, как Источник Жизни, как Норма и Смысл всего, что существует, как Божественный Суд и Божественное Милосердие одновременно? Вот вопросы, без которых нет ответа на проблему о смысле культуры» (3, 43).
Таким образом, для русской философской критики вопрос о культуре неразрывно связан с вопросом о Боге и о смысле человеческой истории.
Н. Арсеньев считает, что в самой истории человечества и в истории его культуры мы частично находим ответ о смысле. Мы видим, что|культуре «устремленность вперед», стремление к созданию новых ценностей всегда идет на основе прошлых ценностей. Философ называет это «ощущением солидарности с прошлыми поколениями». «Из этого порыва творчества и этого — часто бессознательного — порыва к служению и создается культура» (3, 44). (Мысли.
Арсеньева очень созвучны, как мы позже покажем, размышлениям Т.С. Элиота).
Именно эта связь и эта «солидарность» оказалась под угрозой разрушения в нашем столетии. Религиозная философия отвечает на вопрос, почему это происходит: этот процесс является следствием ослабления связи человека с Богом. Но человек пытается оправдать свое новое состояние, и тогда появляется то, что А. Лосев назвал «мифологией нигилизма» — вместо живого мира, теплой земли и голубого неба появляется «черная дыра какая-то, абсолютная темнота и могила». «Одним хочется распылить вселенную в холодное и черное чудовище, в необъятное и неизмеримое ничто, другим же хочется собрать вселенную в некий конечный и выразительный лик с рельефными складками и чертами, с живыми и умными энергиями» (37, 409).
В «Диалектике мифа» А. Лосев пишет о том, что Новое Время «выдвигает на первый план отдельные, дифференцированные субъективные способности или всего субъекта, напрягая его до противоестественных размеров, все же прочее превращается в некое аморфное чудище, в безглазую тьму, в бесконечно расплывшийся, черный и бессмысленный, механический мир ньютоновского естествознания» (37, 501).
Новую культуру схватил пафос отрицания и разрушения.
Этот процесс был глубоко осмыслен также С. Франком в работе «Этика нигилизма (К характеристике нравственного мировоззрения русской интеллигенции)». Нигилизм в понимании автора есть отрицание или непризнание абсолютных объективных ценностей, «принципиальных оценок, объективного различия между добром и злом». Формой нигилизма русской интеллигенции, как считает С. Франк, стал морализм в его светском варианте и утилитаризмна.
Западе формы нигилизма были иные — служение своим личным материальным интересам, а в культурной среде служение красоте, оторванной от нравственности. Можно сказать, что русский нигилизм получает этическую окраску, а западный — эстетическую. Но и в том и в другом случае мы видим разрыв этического и эстетического начал. В философии XX века резко разделились интеллект и интуиция: одни учения решали вопрос в пользу рацио (позитивизм, прагматизм), другие — превозносили инстинкт, интуицию, «волю к власти» (Ницше, Бергсон, Фрейд).
Выход из тупика нигилизма С. Франк видит в возрождении «религиозного гуманизма» — созидающего, а не разрушающего культуру. Человечеству, очевидно, нужна была сильная встряска, чтобы оно вернулось к изначальным ценностям. В статье «Крушение кумиров» Франк так описывает этот процесс: «. в этом безнадежном и безысходном блуждании души по необъятной бескрайней пустыне, когда тоска и духовная жажда доходят до предельной остроты и становятся как будто невыносимыми, — происходит встреча души с живым Богом» (75, 165), (У Габриеля Марселя и Альбера Камю мы находим сходную мысль о близости понятий «отчаяние» и «надежда»).
Религиозная философия не обходит стороной и психологические причины современного кризиса. Человеку нового времени закрывает путь к истине собственная гордость. Н. О. Лосский выделяет как важнейшую особенность XX века — «прометеевский дух эпохи», который вызван отрицанием принципа смирения, непониманием его (38, 176).
Традиции религиозной критики возрождаются в современном литературоведении и публицистике России. В последнее десятилетие произошел резкий взрыв интереса к духовным проблемам культуры.
Так, в книге С. С. Хоружего «Улисс в русском зеркале» (225) говорится о «текстуальном сатанизме» Джойса, его мир — это мир «карнавала и инверсии» — двух главных стихий уже не столько модернизма, сколько — постмодернизма. Один из переводчиков «Улисса» на русский язык, а также автор книги о русской православной философии, С. С. Хоружий пишет о сознательной тяге Джойса к «затемнению текста», что документально прослежено по рукописям Джойса. Эта тяга, по мнению исследователя, находится в связи с глубинными основами личности классика модернизма, которые критик обозначает как «богоборчество и люциферизм». И не столько это тяга ко тьме, сколько к «сумеркам, рассеянному, размытому освещению. Есть особый эстетический эффект недосказанности в неодолимой многозначности, в недоступности четкого толкования» .
Такой взгляд существенно корректирует и углубляет чисто литературоведческие подходы к творчеству Джойса. Репутация Джойса, как правило, строится на высокой оценке, данной ему в статье Т. С. Элиота «Улисс: порядок и миф». Однако следует разобраться, что именно высоко оценивается Элиотом, Это прежде всего сам метод, который Элиот называет «мифологическим», приравнивая его к «научному открытию» в литературе. Но в то же время автор статьи говорит и о том, что «Улисс» его «и восхитил и ужаснул» (правда, второе не раскрывается, но ведь статья очень короткая, это — один из первых отзывов о Джойсе, она не претендует на полный анализ огромного текста).
Джойс являет не просто технику, но сам дух модернизмадух насмешки над святынями, отрицания и скепсиса.
Один из крупнейших специалистов по проблемам модернизма Д. Затонский в своих последних публикациях также связывает явление постмодернизма с утратой религиозных понятий Веры и Надежды (статья «Постмодернизм: гипотезы возникновения», 187). «. постмодернисты и не стремятся к новизне: их интерес лишь в том, чтобы не оставить лазеек для Надежды и Веры. Впрочем от Мефистофеля их все же кое-что отличает: ведь учат они не злу, а безразличию» (187, 278). Д. Затонский ставит важный вопрос — о восприятии Священного Писания в модернизме и приходит к выводу, что любимыми книгами Библии у многих писателей XX века стали Экклезиаст, который критик называет «праотцем постмодерного восприятия» и Апокалипсис Иоанна Богослова. Вынутые из всего контекста Писания, они начинают звучать по-другому. (Как тут не вспомнить главного героя романа Томаса Манна «Доктор Фаустус», который создает музыку на тему Апокалипсиса, только, как замечает автор, это не был «Иоаннов Апокалипсис», а его личный — здесь торжествуют силы зла). По мнению Д. Затонского «первейшая головная боль модернизма — это «не до конца истребленная вера в рай» .) (187, 277).
С точки зрения вечных ценностей рассматривает современный литературный процесс на Западе один из ведущих американистов Н. Анастасьев в статье «Нераспавшаяся связь» (177). Вывод критика довольно нетрадиционен: новейшая литература утверждает «те самые ценности, которые столь страстно утверждала старая литература и которые, ничего не забыв и ни с чем ни порвав, пытается возродить литература новейшая» (177, 27).
Видный литературовед А. Николюкин в книге «Человек выстоит» (206) дает подробный разбор романа Фолкнера на Евангельский сюжет «Притча», ранее остававшийся за пределами внимания наших ученых. Вписав Фолкнера в контекст русской духовно-эстетической традиции (Достоевский, Булгаков), А. Николюкин ставит в центр исследования проблемы добра и зла, долга и совести, смерти и воскресения. (Правда, с концепцией фолкнеровского гуманизма, предложенной критиком, можно было бы и поспорить.).
Из последних работ, затрагивающих проблемы духа и культуры, нельзя не назвать книги Светланы Семеновой «Преодоление трагедии» (215) и Вадима Руднева «Морфология реальности» (211). С. Семенова рассматривает творчество Апьбера Камю как воплощение «религии абсурда», что позволило, на наш взгляд, дать глубокий и свежий анализ романов известного французского писателя. В книге В. Руднева мы находим сжатый, но углубленный и чрезвычайно интересный подход к творчеству Томаса Манна и Франца Кафки (мы называем здесь только интересующие нас фигуры) -речь идет о религиозных истоках художественного мастерства этих писателей.
Евангельским мотивам в западной литературе посвящена одна из последних публикаций Протоиерея А. Меня (204). На большом количестве примеров в ней доказывается мысль о том, что культура XIX и XX веков, несмотря на религиозный кризис, не может уйти от Нового Завета, от личности Спасителя. В то же время А. Мень делает вывод о том, что для художественной литературы задача изображения Иисуса Христа оказалась (и не могла не оказаться) непосильной.
Об актуальности проблемы — религия и культура — говорят дискуссии и конференции, прошедшие в конце восьмидесятых годов в ИМЛИ г. Москвы, в Западном Берлине, в МГУ в 1997 году по теме «Русская литература XIX века и христианство». На конец 1999 года намечено проведение международной конференции по проблемам христианства и русской культуры в Институте филологии Университета им. Адама Мицкевича в г. Познани (Польша).
Теперь обратимся к философской публицистике и эстетической мысли на Западе.
В XX веке в связи с падением авторитета Церкви роль религиозного лидера берет на себя философия. И это объясняет во многом, на наш взгляд, появление и широкое распространение экзистенциализма. Кроме того, философские труды Кьеркегора, Хай-деггера, Унамуно, Габриэля Марселя стали чуть ли не единственным серьезным противовесом на Западе так называемому «либеральному богословию», а также учению Фрейда, устранивших из западного сознания понятия «вины» и «греха», основополагающих для христианства.
Первая мировая война пошатнула веру в «добренького» и всепрощающего Бога, который всегда устраивает все к лучшему. Стала невозможной и гуманистическая вера, идущая от Руссовера в Природу как источник всякого блага и врожденную добродетель человека. Поэтому неслучайно именно в это время Европа открывает для себя датского мыслителя, христианского публициста Серена Кьеркегора, который в своем XIX веке воспринимался большинством лишь чудаком. По мнению Кьеркегора, самую ужасную рану христианство нанесло себе само, перенеся понятие греха в плоскость морали. Размышляя о «страхе», «беспокойстве», «тревоге», Кьеркегор пытается вернуть современникам трагическое чувство жизни, а философии — ее религиозную основу.
Беда современного христианина, по Кьеркегору, в том, что он потерял «страх и трепет» (именно так называется одна из самых крупных работ философа) — т. е. страх Божий, страх грешитьон боится того, чего не следует бояться и не боится того, чего нужно бояться. В XIX веке, считает философ, христианство стало успокоенным, удобным, привычным, и это — самое страшное, что могш с ним произойти. Высший нравственный критерий и достоинство человека, по Кьеркегору, это — не добродетель, а вера. Именно вера, а не добродетель является противоположностью греха. Поэтому так велик Авраам с его готовностью принести в жертву любимого сына Исаака. Не случайно Кьеркегор выбирает из Библии именно этот сюжет: нужно встряхнуть спящее сознание современного человека, который перестал воспринимать Священное Писание как таинственную книгу, видя в ней лишь свод заповедей. С этической точки зрения поступок Авраама непонятен, даже ужасен. Веру Кьеркегор называет парадоксом, «который неподвластен никакому мышлению» (35, 52). «. вера — это парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве единичного стоит в абсолютном отношении к абсолюту» (35, 55). Кьеркегор называет Авраама «рыцарем веры», так как он осознает свой абсолютный долг перед Богом, и это выше для него, чем долг перед своими ближними. Восхищение Авраамом приближает нас к нему и к Богу, и это, пожалуй, единственное, как считает философ, что он нам оставляет, так как понять его разумом невозможно.
Таков и путь искусства, по Кьеркегору. Поэт может не быть героем, может оказаться неспособным на героические деяния вообще, но его любовь и восхищение героем есть его служба и скромное достижениепочитатель героя сам получает нечто от достоинств героя через свое чувство к нему. «Никто не забыт из тех, кто был велик в этом мире, но каждый был велик здесь своим особым образом, и каждый — относительно величины того, что он любил. Ибо тот, кто любил самого себя, стал велик через себя, и тот, кто любил других людей, стал велик через свою преданность, но тот, кто любил Бога, стал самым великим из всех. Все они останутся в памяти, но каждый будет велик относительно своего ожидания. Один стал велик через ожидание возможного, другой — через ожидание вечного, но тот, кто ожидал невозможного, стал самым великим из всех» (35, 23).
Отсюда следует, что и искусство может быть высоким только тогда, когда оно любит высокое, а что может быть выше Бога?
Накануне наступления эпохи позитивизма, с одной стороны, и эстетизма — с другой, которые являются разными формами утраты высокого светлого духа, религиозная философия Серена Кьер-кегора возвращала человека к его высшим истокам.
Своеобразный и глубоко не случайный для XX века взгляд на роль христианства дал испанский мыслитель Мигель де Унамуно. По его мнению, современное христианство в «агонии», но это не значит — накануне исчезновения, а скорее наоборот, в борьбе со смертью — именно такой смысл вкладывает философ в понятие «агонии». «В этой борьбе победить — значит быть побежденным», -пишет он (69, 342). Наша цивилизация не может не быть христианской — «Если умрет христианская вера, вера отчаявшаяся и агоническая, умрет и наша цивилизацияесли умрет наша цивилизация, умрет и христианская вера. Смерть одной из них была бы смертью другой, и поэтому мы должны жить в агонии» (69, 347). (Как видим, Унамуно не разделяет понятия «цивилизации» и «культуры», как это делает, например, Освальд Шпенглер).
Однако в отличие от И. Ильина и С. Кьеркегора, которые считают раздвоенность и неуверенность болезнью души, М. Де Унамуно возводит сомнение в принцип, необходимый для всякого познания и веры. Вражда разума и веры, по Унамуно, — нормальное состояние сознания, более того, — необходимое для того, чтобы делать веру живой. «Религиозное отчаяние», как считает философ, является основой культуры.
В этом Унамуно типичен для XX века. Он созвучен творчеству Камю, Кафки, Хемингуэя.
Вместе с тем, несмотря на сомнения и отчаяние Унамуно считает христианство не только основой культуры, но и всей жизни человека, даже, если это не осознается. Многие «деятельные и энергичные люди» вообще не принимают во внимание вопрос о бессмертии, но. «эти деятельные и способные люди живут в обществе, которое впитало в себя христианские принципы, они живут под защитой определенных социальных институтов и чувств, выработанных христианством, и вера в бессмертие души в их душах является как бы подземной рекой, которую не видно и не слышно, но воды которой орошают корни поступков и намерений этих людей» (69, 247). «Подземная река» христианства — это не только, как нам кажется, красивый поэтический образ, но глубокое и точное обозначение современной ситуации.
Мысль о духовном предназначении искусства звучит в работе немецкого классика экзистенциализма — М. Хайдеггера «Исток художественного творения» (80). «Художественное творение раскрывает присущим ему способом бытие сущего. В творении совершается это раскрытие-обнаружение, что есть истина сущего» (80, 280). Искусство, по мнению философа, «бросает нам утаенное предназначение. исторически совершающегося здесь бытия» (80, 398). Всякое созидание есть извлечение — как воду черпают из колодца. Этот образ нам представляется религиозным по своей сути, так как художник здесь является не творцом новой реальности, что делало бы его равным Богу, а всего лишь работником и служителем. Нигилизм, по мнению Хайдеггера, губителен для искусства: он есть обесценка высших ценностей" - когда небо уничтожено, остается только земля" (79, 67).
Критика современного духовного и нравственного состояния общества звучит во многих сочинениях одного из видных представителей французского экзистенциализма — Габриэля Марселя. В книге «Быть и иметь» он пишет: «Огромная этическая и метафизическая ошибка современности состоит в нежелании признавать, что душе тоже может угрожать опасность. именно идея опасности должна быть углублена во всех смыслах» (41, 23). В современном мире, по мнению Г. Марселя, наблюдается возрастающая неспособность к служению и одновременно с этим тяга к обладанию материальными благами. Быть и иметь — это две противоположные формы жизни. «Тот, кто остается в системе обладания, сосредотачивается на себе самом — и перестает быть. Человек обнаруживает себя посредством тайны: найти себя в трансцендентном — это значит, по Г. Марселю, — быть. Чудо христианства, считает философ, есть источник вечного обновления, оно произошло давно и происходит сейчас. Христианство продолжает оставаться основой западной культуры.
Г. Марсель пишет о том, что одним из определяющих моментов нашей исторической ситуации является — «существование феномена христианства со всем, что в нем заключено, и здесь не важно, принимаем ли мы христианскую религию или нет, считаем ли истинными или ошибочными основные положения христианского учения. Что для меня совершенно ясно, так это то, что мы не можем мыслить так, словно не было до нас столетий христианства. существование феномена христианства играет здесь роль оплодотворяющего начала. Оно способствует зарождению в нас некоторых идей, к которым мы на самом деле, возможно, без него и не пришли бы» (41, 104). (В этом утверждении Марсель близок Унамуно.).
Несмотря на обилие формалистических и фрейдистских сочинений из эстетики XX века не уходит мысль о необходимости для искусства абсолютных ценностей. Так, ведущий немецкий философ и литературовед Рудольф Унгер пишет: «Историко-литературное исследование, отказавшееся от философских, конкретно-психологических и эстетических методов и критериев, от этических, религиозно-философских, философско-исторических идей, вынуждено было бы беспомощно опустить руки как раз перед самыми важными фигурами и течениями. литературы» (70, 154).
Немецкий философ Г.-Г. Гадамер, представитель герменевтики, в книге «Актуальность прекрасного» ставит вопрос о смысле культуры и приходит к выводу о том, что искусство — это прикосновение к высшему через символ, это — не просто отражение, но «приращение бытия», восполнение недостающего — «оно отсылает нас к чему-то, что не заключено непосредственно в доступном восприятию внешнем облике» (16, 298).
О необходимости для искусства идеального начала пишет в «Основах и предназначении поэзии» американский философ Джордж Сантаяна. О близости поэзии и религии он говорит следующими словами: «Что провидения религии поэтичны и что к этим провидениям поэзия стремится как к высшей своей цели — истина, которую и поэзия и религия постигают тем яснее, чем больше они прибавляют в красоте и глубине» (214, 128).
Восстановлением в правах религиозной основы искусства выглядят многочисленные работы Томаса Стерна Элиота. Элиот показал, что традиция гуманизма, заявившая о себе в полную силу в период Возрождения и получившая дальнейшее развитие у романтиков, парадоксально привела к дегуманизации личности.
Элиот по-новому поставил проблему личности в культуре XX века. Отрицая романтическую концепцию эстетического произвола, Элиот пытается вернуть искусство к аскетической духовности. В широко известной статье «Традиция и индивидуальный талант» Элиот пишет:". поэт отнюдь не выражает свою личность, но является своего рода медиумом — только медиумом, а вовсе не личностью, — в котором различные впечатления и переживания комбинируются самым причудливым и неожиданным образом" (227, 174). Элиот считает, что человека отличает от животного не что иное, как вера в Бога — «Нельзя избежать дилеммы: надо быть либо натуралистом, либо поборником сверхъестественного. Если из слова „человеческий“ исключить все, что дала человеку вера в сверхъестественное, то в конечном счете человека можно будет рассматривать как всего-навсего хитрое, способное к приспособлению и злобное животное не очень больших размеров» (229, 131).
По мнению Элиота, христианская культура начинается с чувства вины, с пробуждения совести, с покаяния. Так, анализируя сценку встречи Энея с тенью Дидоны в подземном мире в «Энеиде» Вергилия (статья «Что такое классик?»), Элиот видит в ней начатки христианской культуры. «Тот, кому выпало вести Данте к божественному видению, которым сам он никогда не смог бы насладиться, вел также и Европу к христианской культуре.» (228, 259).
В статье «Социальное назначение поэзии» Элиот пишет о значении для искусства религиозного чувства — «Все теперь много говорят о кризисе религиозных верований, но гораздо реже можно услышать о кризисе религиозного восприятия жизни. Заболевание, каким поражена современная эпоха, состоит не просто в неспособности принять на веру те или иные представления о Боге и человеке, которые питали наши предки, но в неспособности испытывать к Богу такое чувство, какое испытывали они. Даже если вы и не принимаете больше на веру то или иное представление, вы до определенной степени все же можете его понятьно когда исчезает религиозное чувство, сами слова, в которых люди стремились его выразить, лишаются смысла. Бесспорно, религиозное чувство, как и чувство поэтическое, неодинаково в разных странах и меняется от века к веку-. не исключено, что повсюду исчезнут поэтическое чувство и те чувства, которые дают материал поэзиичто ж, возможно, это только ускорит пришествие того всемирного единообразия, в котором некоторым людям видится всемирное благо (230, 170−1). (Если Достоевский видел спасение от счастья «муравейника» в праве на страдание, то Элиот его видит в способности живого восприятия Бога.).
Отсюда понятны гротескные образы в поэзии раннего Элиота — The Hollow Men (причем с определенным артиклем) — как некая пустота, претендующая на реальность. Это — именно существа, лишенные религиозного чувства.
По Элиоту индивидуальность определяется способностью подчинить себя сверхличному, принести в жертву свой эгоизм. «. человек не в состоянии жить, не признав свою зависимость от сил, находящихся вне его индивидуального мира» (229, 152).
В споре с философом Ирвином Бэббитом (в статье «Гуманизм Ирвина Бэббита») Элиотт писал, что Гуманизм постепенно стал религией. Отказываясь от священного, гуманизм «оставляет человека с человеческим, которое быстро смыкается с животным», от чего он призван был увести. Гуманизм и религия, по Элиоту, — не параллельные учения, а находящиеся в разных временных плоскостях — первое — преходящее, второе — вечное. Оставляя человеку в качестве единственного критерия «внутреннее чувство», «самоконтроль», неогуманисты ставят человека на очень зыбкое основание. Прочное же основание может дать только религия.
Большой вклад в изучение проблемы взаимосвязи религии и художественной литературы внесли, на наш взгляд, основоположники «новой критики». В книге «Бог без грома», написанной в 1930 году, Джон Кроу Рэнсом пишет, что единственной формой противостояния духовному распаду общества может стать христианская мифология, претворенная в искусстве. Поэзия дает христианству новую жизнь, так как через форму, через язык, через красоту лежит путь Бога к человеческому сердцу. Однако Бог Рэнсома — отнюдь не сентиментален. Это Бог скорее Ветхого, чем Нового Заветавездесущий, величественный и грозный. «Во-первых, — пишет Рэнсом, — Он — таинственен и не может быть понят до концамежду Ним и человеком не может быть «дружеских отношений» — Ему надо поклоняться в страхе и трепете, принося жертвыв-третьих, Он допускает не только добро, но и зло (284, 158). Воля Бога непознаваема и непредсказуема. Грозный Бог необходим человеку, иначе человек перестает принимать Его всерьез. «Чем мягче образ Бога становится в современном христианстве, — считает Рэнсом, — тем менее люди начинают в нем нуждаться». Такой «демократический» Бог — иррелигиозен.
Понятия «эстетическое» и «религиозное» у Рэнсома неразрывно связаны между собой. В сборнике «Поэмы о Боге» Рэнсом рассказывает о том, как написав три или четыре стихотворения на разные темы и с разным настроением, он, перечитывая их, был удивлен тем, что все они так или иначе касались религиозной проблематики. После чего поэт пришел к выводу о том, что «тема Богасамая поэтическая из всех возможных». Язык науки совершенно непригоден для разговора о религиозных истинах, а язык поэзии, по мнению Рэнсома, доверено нести правду мифа.
Другой виднейший неокритик Аллен Тейт считает, что религиозные абсолюты совершенно необходимы высокой культуре -" The dominating structure of a great civilized tradition is certain absolutes — points of moral and intellectual reference by which people live, and by which they must continue to live until in the slow crawl of history new references take their place" (цит. no 265, 153).
Религия дает критерий оценки ценностей, — считает Тейт. Без учения о Первородном грехе невозможно объяснить человека.
Тейт и Рэнсом спорят с Руссо и его последователями: природа сама по себе не является носителем добра, напротив, в самой природе, как и в человеке присутствует зло. Догма, ритуал и мифвот три необходимые формы, помогающие человеку преодолеть зло, — считает Тейт.
Элиот, Рэнсом и Тейт отстаивали в своих работах великие завоевания христианской Европы. Идеалом культуры для них были Средние Века. Только органическое общество способно дать такого гения как Данте. Эти положения утверждались в спорах, которые велись сразу по нескольким направлениям — с либералами, атеистами, прогрессистами и «новыми гуманистами» .
По существу христианская мысль никогда не уходила ни из философии, ни из эстетики, только не всегда она была слышна всеми, да и формы ее изложения и восприятия были разными.
Традиции Рэнсома и Тейта были продолжены и обогащены их учениками и последователями — Клинтом Бруксом и Робертом Пенном Уорреном.
В книге К. Брукса «Скрытый Бог» (239) поставлена серьезная и интересная задача — проследить религиозные корни в современной литературе. Само название работы говорит о том, что для Брукса Бог присутствует в художественной литературе опосредованно — Он — в образах и подтексте, стиле и композиции. На примере творчества Элиота, Хемингуэя, Фолкнера, Уоррена виднейший американский критик исследует мотивы греха, вины, искупления, добра и зла. В христианском учении о Первородном грехе Брукс видит возможность противостояния «современной ереси» -" доктрине прогресса" (239, 99). Серьезное искусство всегда противостоит оптимизму «массовой культуры», поэтому служение ему уже может быть формой служения Высшему.
К Брукс способствовал возрождению интереса к «метафизическим поэтам» Елизаветинской эпохи. В известной статье «Язык парадокса» критик раскрывает специфику поэтического мышления, считая важнейшим началом в поэзии иронию и парадокс, причем Брукс вкладывает в эти понятия смысл, близкий христианскому восприятию — это не средства сатирического или даже шире — комического, а способ воплощения антиномий жизни.
Глубоко и своеобразно поставлен вопрос о специфике религиозного сознания в поздних работах Карла Юнга. Психолог-аналитик Юнг воспринимает веру как неоспоримый психологический фактор человеческой жизни. В отличие от Фрейда (кстати, разница в подходе к религиозным проблемам и была в конечном счете причиной ухода Юнга от своего учителя) Юнг считал человека религиозным по природе, а религиозную направленность столь же могущественной, как половой инстинкт или инстинкт агрессии. По Юнгу божественное — направляющий принцип единства внутри глубин человеческой психики. В статье «Настоящее и будущее», написанной в 1957 году, Юнг пишет: «Не укорененный в Боге индивидуум на основании своих личных мнений не способен оказать какое бы то ни было сопротивление физическому и моральному могуществу мира» (88, 124).
Таким образом, по Юнгу именно религиозные убеждения делают человека личностью. «Разглядеть внешние условия существования можно лишь в том случае, если есть точка зрения, с которой на них смотрят. Религия дает человеку такую точку зрения или даже требует ее от него, способствуя тем самым свободному суждению (!) индивидуума. Религия дает ему запас прочности против многообразного и неуклонного принуждения извне, перед которым пасует всякий, кто жив лишь внешним миром и не чувствует под ногами никакой почвы, кроме асфальта. Если нет никакой другой действительности, помимо среднестатистической, то она одна наделена авторитетом. Тогда она одна решает и обуславливает, тогда ей нечего противопоставить, а свободное суждение и решение тогда не просто избыточны, они и невозможны. Индивидуум принужден исполнять роль статиста, быть функцией государства или какого-нибудь другого абстрактного принципа порядка, как бы он не назывался» (88, 121−2).
Юнг в отличие от многих поверхностных людей не считает веру препятствием к свободе личности, а, напротив, связывает эти два понятия, давая как бы психологическое обоснование Евангельскому — «Истина освободит вас» .
Основатель аналитической психологии считает, что Бог — это внутренний опыт всего человечества, «затемненный исключительно тупым рационализмом». Окружающий мир и Бог — вот два первоначальных опыта. «душа является зеркалом обоих. Она есть та точка, в которой они соприкасаются друг с другом» (88, 201).
Юнг пишет о том, что с победой разума произошла «всеобщая невротизация современного человечества», расщепление личности. «Пропасть между верой и знанием — это симптом раскола сознания, характерный для нарушений в духовном состоянии нового времени» (88, 148). Из своего врачебного опыта он сделал вывод, что большинство невротиков — неверующие. Болезнь связана с расщеплением личности, выздоровление — с обретением цельности. По словам Юнга, ни один из пациентов не излечивался без достижения религиозной позиции.
В 30−50 годы вопрос о христианском характере культуры прозвучал в сочинениях американских философов братьев Ричарда и Райнхольда Нибуров. Ричард Нибур видит в христианстве цементирующее, объединяющее начало, без которого нет ни культуры. Ни личности. По мнению философа, современная культура «вся в трещинах». Проблема культуры — это проблема ее преображения. Великая революция христианства не ушла в прошлое и не грядет в будущем, она происходила всегда и происходит сейчас.
Рейнх?1ьд Нибур считает, что «особый вклад религии в дело нравственное состоит в ее осознании глубинного измерения в жизни» (49 377). Тем более это необходимо для культуры. Искусство^ своей природе мифологично, а «гений истинного мифа — как пишет Р. Нибур — состоит в способности обнаружить глубинное измерение в реальности» (49 382).
Большое влияние в западном мире середины XX века имели работы немецкого теолога Пауля Тиллиха, эмигрировавшего в период Второй мировой войны в США. Религиозная составляющая, по мнению П. Тиллиха, всегда присутствует в культуре, даже если и не осознается ею. Тиллих определяет религию как «предельный интерес» а без заинтересованности высшим нет настоящего искусства.
По Тиллиху религия — это глубина духовной жизни человеками чем более глубоко произведение искусствадем оно более религиозно (мы полностью разделяем это суждение и считаем его одним из оснований темы данного исследования).
Новейшие исследования английских и американских авторов (70−90 годов) позволяют говорить о том, что интерес к религиозным проблемам в искусстве и литературе не уходит, а продолжает развиваться.
Так в книге Э. Гарднер «Религия и литература» написанной в 1983 году (254), утверждается, что религиозный кризис XX века является продолжением кризиса Х! Х-го — с его расплывчатостью религиозных верований и этических норм, а также исчезновением цельного взгляда на мир. В XIX веке поэзия становится выражением сугубо личных чувств вне их связи с Высшим началом, появляются сомнения и неуверенность — психологические признаки разрушающейся взаимосвязи. Новой религией XX века стал фрейдизм, который заменил понятия «вины» и «греха» — понятием «болезни». Исчезла основа для трагического, в искусстве вошел прагматизм.
Одним из фундаментальных исследований последних десятилетий является книга канадского ученого Нортропа Фрая «Великий Код: Библия и литература» (253). Библия рассматривается как универсальная структура повествовательного метода вообще, как ар-хетипическая образная система, которая является основой всей европейской культуры. Язык Библии — это язык метафор, и в этом — его глубокая внутренняя близость художественной литературе.
Енлбдал и литеро-т^ ри^ один метод — мифологический. Миф, как считает Н. Фрай, не просто форма отражения исторической действительности, но творческая форма, где участвует воображение и чувство. В Библии, как и в искусстве, есть «правда поэзии и мифа». Библия глубоко укоренена во всех основах речи и языка, она является глубочайшим уровнем человеческого сознания.
В своей книге Н. Фрай пишет об особом диалектическом мышлении Библии (утверждение + отрицание — переход в новую стадию), которое определило некоторые особенности европейского сознания — «It is a much more complex operation of a form of understanding combining with its own otherness or opposite, in a way that negates itself and passes though that negation into a new stage, preserving its essence in a broader context, and abandoning the one just completed like the chrysalis of a butterfly.» (253, 228).
В книге H. Фрая много интересных конкретных замечаний, касающихся библейских символов и их трансформации в литературных произведениях (мы будем обращаться к нему в процессе исследования).
Вместе с тем следует отметить, что Фрай подходит к Библии прежде всего как культуролог, видя в ней скорее структурный принцип, чем духовное основание культуры. В заключении Фрай пишет о том, что человек «выдумал себе богов», чтобы преодолеть свою конечность.
Важная теоретическая проблема — осмысление мировой литературы через призму трагического — поставлена в работе английского критика И. Саймон «Сострадание и страх: Христианство и трагедия» (1989 г.) (287). В результате исследования автор приходит к выводу о том, что постепенно происходило «отчуждение христианства от трагического духа», поэтому искусство XX века оказалось неподготовленным к «ужасам истории». Трагедия как жанр (в ее классическом понимании) в нашем столетии стала невозможной. «Смерть трагедии связана со смертью героя». Величие души, высокий духовный потенциал, способность на благородство и жертвунеобходимое условие трагического героя — потеряны культурой XX века. А без этого нет сострадания и катарсиса, остается один непросветленный страх и ужас.
К иным выводам приходит автор книги «Воображение и религия в Англо-Ирландской литературе» преподаватель Дублинского университета Дениэл Мерфи (1987 г.) (277). Взаимодействие религии и искусства критик объясняет следующими причинами: 1) поиски эстетико-религиозной целостности, 2) стремление объяснить смысл существования через художественную символизацию, 3) познание диалектики жизни невозможно без учета иррационального, 4) разочарование писателей в идеалах политической свободы и демократии. На материале творчества английских и ирландских поэтов и драматургов (среди них далеко не все христианской ориентации, есть даже и богоборцы — такие, как С. Беккет) автор приходит к выводу о том, что несмотря на различия индивидуальностей и методов, писателей объединяет образ Распятия Иисуса Христа как символ трагедии существования. Зависимость от этого образа свидетельствует, по мнению исследователя, «о признании непреходящего значения истории и культуры христианства» (277, 208).
Очень интересно прослеживается связь понятий «зла» и «греха» с развитием литературы в книге английского критика П. Рейли «Литература вины: от Гулливера к Голдингу» (1988 г.) (285). Автор выдвигает и убедительно аргументирует мысль о том, что современному человеку дан в основном отрицательный путь познания Бога («отрицательная Епифания») — через падение, явление зла и демонического началаэто — путь Иуды. «Осознание личностью своего разложения — черта современной литературы» , — пишет Рейли.
Из публикаций 90-х годов хочется отметить эмоциональные статьи редактора журнала «Религия и искусство», издаваемого в Бостонском колледже профессором английской литературы Денисом Тейлором. Одна из его работ, опубликованная в этом журнале (292) носит красноречивое название — «Необходимость религиозной литературной критики». Д. Тейлор считает, что у нас не выработан язык для обсуждения религиозных проблем в литературе — «We have no way of talking about God in literary criticism» (292, 143). «We seem in terrible dilemma: we cannot talk about it. But if we don’t. We ignore something fundamental at the heart of the work. So our powerful critical languages go on poking at what seem to be edges, until we decide. that the edge is the center. But like Melville’s the God question rises up from the displaced edge and threatens to overwhelm us» (292, 144).
Как видим, Д. Тейлор считает, что современный читатель и критик разучился идти в глубину проблем и движется лишь по краю, «принимая этот край — за центр» .
Есть также много конкретных исследований, посвященных творчеству отдельных авторов, в которых ставятся проблемы христианского понимания литературы и религиозного познания жизни.
Так, в книге американского критика Л. Хассмана «Драйзер и его романы: поиск XX века» (1983 г.) (262) доказывается, что Драйзер в конце жизни приходит к христианству (роман «Оплот»). Вступление в компартию Л. Хассман объясняет желанием Драйзера «быть с народом» .
В исследовании американского ученого Д. Фаулера «Эволюция Фолкнера: От бунта к утверждению» (1983 г.) (252) ставится проблема религиозных поисков в творчестве классика мировой литературы. Автор разделяет всех героев Фолкнера на идеалистов и материалистов, показывая безусловную победу первых — так проявилась вера Фолкнера в торжество Добра.
Любопытные наблюдения над текстом романов Фолкнера делает автор книги «Зеркало, лампа и кровать: Фолкнер и модернисты» американский критик В. Хлавса (1985) (259). Он считает, что роман «Свет в августе» построен на библейских символах, отсюда и особенности его композиции: двадцать одна глава романа соответствует двадцать одной главе Евангелия от Иоанна.
О религиозном восприятии времени в поэзии очень интересно пишет американский исследователь Дж. Бейкер в книге «Время и разум в поэзии Вордсворта» (1980 г.) (235). Книга содержит много общих философских положений, которые иллюстрируются поэтическими текстами.
Вместе с тем следует отметить, что далеко не все аспекты проблемы — религия и литература — исследованы с должной глубиной и серьезностью (да и не может быть иначе ввиду глобальности и сложности этой темы). Не так уж много написано о преодолении кризисного сознания эстетическим путем, о типологии философской, публицистической мысли и художественной образности в XX веке, о взаимосвязи языческого и христианского в современной литературе, о судьбе Евангельского понимания познания истины в литературе XX века, о проблеме бессмертия в западном романе, о связи демонического и эстетического. Все это будет предметом нашего исследования.
Мы рискуем предложить православный взгляд на творчество Кафки, Камю и других авторов.
Актуальной данную тему делает и тот факт, что в критике последних лет наблюдается тенденция вписывания христианской традиции в общемифологическую или акцентирование у европейских писателей восточных мотивов (книга американского исследователя В. Скафф «Философия Т. С. Элиота — от скептицизма к сюрреалистической поэтике» (288), кандидатские диссертации — Е. Гордеевой «Трилогия желания Драйзера» (184) и И. Эбанидзе «Личность автора в художественном пространстве ранних новелл Томаса Манна» (227).
Мы не претендуем на полное и исчерпывающее решение проблемы христианских истоков и религиозных поисков в литературе первой половины XX века (повторяем, это слишком сложная и объемная задача) — здесь рассмотрены лишь некоторые аспекты на примере несколькижрупнейших писателей этого времени.
Следует оговорить еще один момент. Мы опираемся в основном на англоязычные тексты, но, не считая себя специалистом в области немецкой и французской литератур и не претендуя на глубокий анализ, включаем в работу Томаса Манна^Кафку и др. Они взяты в качестве контекста исследования и в общефилософском или религиозном аспекте. Кроме того, говоря об этих писателях, мы опираемся на конкретные исследования крупных ученых (накоплен огромный материал) и вписываем их в круг вопросов данной работы.
Логика диссертации отражена в ее композиции. Работа состоит из Введения, четырех глав и Заключения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
То, что обычно называют кризисом XX века, было, по существу, кризисом гуманистической веры, а религиозная стала ослабевать значительно раньше. XX столетие с его катаклизмами потрясло именно веру в человеческие возможности, в научно-технический прогресс, в природу как средоточие добра, в Бога, всегда все устраивающего к лучшему. Это был кризис рационализма и либерализма в религии. Не могла выдержать проверки всякая поверхностная неглубокая религиозность. Но при этом появлялся шанс обновления и возрождения исконно религиозных вопросов.
Христианство, безумие креста, иррациональная вера в то, что Христос воскрес, чтобы воскресить нас, было спасено эллинской рационалистической культурой, а эту последнюю спасло христианство, — пишет Мигель де Унамуно, — без него, без христианства был бы невозможен Ренессанс, без Евангелия, без Святого Павла, народы, вышедшие из средних веков, не поняли бы ни Платона, ни Аристотеля" (69, 120).
Но постепенно связи с христианством в культуре ослабевали, вытеснялись не атеизмом, а гуманизмом, а гуманизм, как это ни парадоксально звучит, привел к дегуманизации. Когда человек любит Бога, он любит и человека. Когда, отказываясь от Бога, продолжает любить человека (светский гуманизм), то постепенно теряет и эту любовь, так как она оказывается неукорененной, лишенной основы и смысла. Гуманизм переходит в дегуманизацию, что мы и видим в истории литературы: Возрождение — Романтизм — Декаданс.
Модернизм — Постмодернизм. Пока еще сохраняется связь с христианством — есть и гуманизм, чем больше она ослабевает, тем меньше в литературе остается человека.
Искусство и философия XX века стали возвращать человеку утраченное им чувство бытия, чувства вины и греха, без которых нет истинного христианства. Философия экзистенциализма в самых разных формах стала противовесом рационализму Гегеля, О. Кон-та, Спенсера, Маркса. Делая акцент на «существовании», новые философские учения возрождали индивидуальное переживание жизни как драмы, фиксировали интерес на предельном, на проблеме смысла жизни и смерти.
П. Тиллих предлагает очень широкое понимание экзистенциализма как «захваченность предельным», как страстный интерес. По мнению П. Тиллиха, «экзистенциализм — это протест против духа индустриального общества», который уничтожает видение глубины в божественном и демоническом" (68, 268−9).
Те произведения, в которых есть Бог, имеют глубину и высоту, связь осуществляется по вертикали, это объемный, богатый, диалектичный мир. Именно таков мир Элиота, Фолкнера, Томаса Манна, Уоррена.
Художественная литература в своей озабоченности, тревоге и обостренном чувстве трагизма становится религиозной даже там, где она, казалось, далека от религиозных вопросов. Обеспокоенность утратой смысла — уже есть начало поиска. В этом смысле можно говорить о религиозности таких писателей, как Кафка или Камю. «Преобладание экспрессивного стиля в современном искусстве, — пишет П. Тиллих, — это шанс для возрождения религиозного чувства» (68, 290).
А именно религиозное чувство питает искусство и философию. Так считает М. Де Унамуно — «Философская мысль народа или эпохи — это как бы их цветок, или, если хотите, плод, она берет свои соки из корней этого растения, а корни его, скрытые глубоко под землей, это не что иное, как религиозное чувство» (69, 272).
XIX век был расцветом и, очевидно, пиком психологического романа. Это была эпоха души. В XX веке крупнейших писателей Запада больше влечет проблема духа. Отсюда и преобладание универсальных форм: мифа, притчи, аллегории. Конечно, нельзя сказать, что психологизм совсем уходит (дух и душа, безусловно, взаимосвязаны, и литература не может совсем обойтись без душевного), но он начинает играть иную роль, а также меняется качественно. Писателей больше интересуют не индивидуальные особенности типов и характеров (как Стендаля или Толстого), особенности определенных психологических состояний и сами законы психики, что мы видим, например, у Пруста. Самый психологический писатель XX века — Марсель Пруст психологичен иначе, чем Стендаль или Толстой.
Другие же авторы еще более далеки от задачи воспроизведения индивидуальной человеческой психики. Очень мало психологичны Кафка, Камю или Томас Вулфу Томаса Манна и Фолкнера психология героев, как правило, не является самоцелью и вытесняется философскими проблемами — отсюда, например, характерные упреки — Томасу Манну — в «интеллектуализме», Фолкнеру — в «статичности» его персонажей.
Правда, были и писатели, которые почти полностью оставались в рамках традиционного психологического романа (такие, как Гол-суррси, Мартен дю Гар, Филип Эриа), зато и открытий на этом пути уже не было (хотя и было развитие традиций).
В этом смысле XX век более духовен и религиозен, чем XIX й.
Вряд ли когда-нибудь в истории литературы было также страстное вопрошание, такой неистовый поиск Бога. Ищут не только, когда теряют, но когда осознают потерю.
Не случайно в романе XX века одной из ведущих стала проблема познания истины. Прогресс и цивилизация подменяют познание — знанием, истину — информацией. Философская мысль XX века и художественная литература сделали попытку вернуть решение проблемы из схоластически-рационалистического на религиозно-экзистенциальный путь, т. е. возвращая мысль туда, откуда она вышла.
Что такое истинное познание? Иисус Христос пришел, чтобы спасти людей. От чего же Он их спасает? Ангел, явившийся во сне Иосифу, сказал следующее: «Родишь же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус: ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Матф, 1, 21). Христос спасает далеко не всех — «людей своих», т. е. достойных спасения, причем спасает от их грехов, т. е. от самих себя. Как это возможно? Только через осознание человеком своих грехов. В акте спасения участвует сам человек. Спасение не является чем-то внешним, подобным, скажем, тому, как спасают утопающих, а глубоко внутренним пережитым процессом, в котором таинственным образом участвует Бог. Путь спасения — это и есть путь познания, или во всяком случае включает его.
Именно такой путь познания мы видим у Фолкнера, Элиота, Уоррена, Голдинга. И, наоборот, истинное познание не дано было таким писателям, как Кафка или Камю, хотя они страстно к нему стремились. Они не захотели признать главного: глубокой испорченности человека, его вины перед Богом. Поэтому их вопросы остались без ответов.
Показательно противостояние в литературе XX века двух фигур, архетипами которых являются Фауст и Гамлет. Фауст жаждет абсолютного знания о мире и его законахустремления Гамлета сводятся к тому, чтобы узнать, действительно ли его отец убит Клавдием и как он должен действовать, чтобы защитить честь семьи. В своем знаменитом монологе «Быть или не быть?» он ставит вопрос не о мести как таковой, а о том, «что благородней духом» -смириться или бросить вызов злу. Его знание — это знание морального, духовного свойства, в отличие от скорее научного, направленного на внешний мир знания Фауста. Многие писатели XX века преодолевают фаустовское начало (среди них — Т. Вулф, Р. П. Уоррен, Фолкнер, Элиот, Томас Манн). Гораздо привлекательнее и ближе становится для них фигура Гамлета (особенно у Фолкнера и Элиота) — начало трагическое, думающее, переживающее чужой грех как свой, личный.
Кроме Фауста и Гамлета мы находим еще некоторые сквозные мотивы у разных писателей XX века, это — тема отца и сына, обращение к Иисусу Христу и преодолению зла через Крест, через страданиепротивопоставление временного и вечного.
Тему поисков отца или отказа от отца мы встречаем у Кафки, Камю, Томаса Вулфа, Томаса манна, Р. П. Уоррена, и решается она по-разному, но почти всегда она приобретает символическое звучание. У истоков этой традиции стоит Достоевский. Мотив отцеубийства в «Братьях Карамазовых» имеет, прежде всего, духовный смысл — это отказ от Бога. Пророчество Достоевского сбылось и в истории и в культуре — и в русской и в западной.
Лейтмотивом многих романов XX в. является также мифологема пути, которая получает религиозное звучание и находит воплощение в образах круга, дороги, реки, лабиринта, тупика, ямы и пр. С нею связан мотив возвращения и поиска. Первоисточником ее является в античности миф об Одиссее, а в христианствепритча о Блудном сыне.
Сначала, убив Бога, культура начинает оплакивать свое новое состояние, а потом начинает искать Отца. С этим связано увеличение драматизма в современной литературе и ослабление в ней эпического и лирического начала. Т. С. Элиот, цитируя американского философа Нортона, пишет: «Похоже на то, что мир вступает в новый этап опыта, отличающегося от всего происходящего ранее, в котором должна существовать новая дисциплина спрадания, призванная приучить людей к новым условиям» (228, 107).
Это можно проследить по стихам того же Элиота: его лирика совсем не лирична в традиционном смысле слова — разорванные ритмы, антитезы, парадоксы, фрагментарность, грубая лексикавсе это наполнено столкновением, конфликтом, трагедией, и вместе с тем, все это соседствует с торжественным приподнятым метафоричным стилем.
И, вообще, лирика XX века — особая. В американской прозе наиболее лиричным считается Хемингуэй, но сколько драматизма в его подтексте! У Генриха Беля, писателя также тонкого, поэтичного (особенно в раннем периоде творчестве), лирика тесно слита с иронией, драмой. Исповедальная интонация романов Ремарка, в которой присутствуют любовь к женщине и природе, в то же время пронизана безысходностью и чувством катастрофы. Резкие контрасты характерны для страстных монологов героев Фолкнера (особенно Квентина Компсона). Трагичен лирический герой Томаса Вулфа. Лирика Томаса Манна носит философский и интеллектуальный характер, не лишена иронии и трагических интонаций.
Драматизм, кагтспрофичноспь — вот ведущие черты поэтики XX века — и именно в этом, на наш взгляд, ее близость раннему христианству, которое с веками становилось все более успокоенным.
В XX веке, когда наука теряет свою гордую независимость, а западная церковь секуляризируется, все больше приспосабливаясь к современным условиям, может быть, только философия и искусство еще способны сохранить трагический и высокий дух христианства.
Особенно отчетливо это проявилось в литературе США 20−30 годов, когда возникло движение, так называемого, Южного Возрождения. По своему характеру и сути это было явление религиозного возрождения, совсем не случайно возникшее на Юге и возникшее не «вдруг», как это многим тогда показалось, а вполне закономерно — как итог особого исторического и идеологического пути Юга.
Юг и Север Америки — это не только две разные географические структуры, но и две разные Идеи. Одна — теократическая, религиозная, другая — демократическая, буржуазная. И, если исторически первая была обречена (что и показало поражение Юга в Гражданской войне между Штатами), то метаисторически, в духовном пространстве бытия Идея Юга отнюдь не исчезла и дала яркую вспышку философской и эстетической мысли в начале XX века. (Не случайно и в данной работе большинство рассматриваемых американских писателей — южане.) «Джазовый век» Севера дал «потерянное поколение», Юг же жил в двадцатые годы не только в другом пространстве, но и в другом времени, и здесь была не «потерянность», а обретенность.
Север америки в это время был в духовном отношении ближе к Европе, чем Юг, а Европа переживала острейший кризис. Проявления кризиса были многообразны. У одних (как у Апьбера Камю) он нашел выражение в прямом споре с христианством, у других (как у Франца Кафки) — в мучительной борьбе с самим собой, у третьихв психологическом наблюдении над новыми явлениями (примером может быть творчество Теодора Драйзера). Время как бы прошло через души писателей и выразило себя в них. Но они не смогли подняться над временем, потому что у них не было твердой позитивной основы и ясного критерия оценки жизни. Они остались в своем времени, с необыкновенной искренностью и талантом воплотив его в художественных образах (что для писателя немало).
Но были художники, увидевшие больше других, глубоко осмыслившие крушение традиционного гуманизма и сделавшие его предметом специального изображения. Это прежде всего — Томас Манн.
Отдав дань своему времени и пережив увлечение Ницше и Шопенгауэром, Томас Манн закончил гимном Ветхозаветному Иосифу Прекрасному. Это было движение не в прошлое, а в вечное, в истинное.
Интерес к мифам и архаике был также характерен для нашего времени, но вопрос в том — к каким мифам обращаться и как их понимать. В докладе о романе «Иосиф и его братья» Томас Манн говорил, что его задачей было — «вырвать миф из рук фашизма» .
Прекрасный Иосиф в богословской литературе считается прообразом Иисуса Христа. Его предательство братьями, опускание в колодец и чудесное вознесение из колодца находят аналогии в Евангельской истории Спасителя. Так, Иоанн Златоустый в «Беседах на Книги Бытия» пишет: «Как Иосиф пришел посетить братьев, а они, не уважив ни братства, ни причины его посещения, сперва хотели было убить его, а потом продали иноземцам, — так и Господь наш, по человеколюбию Своему, пришел посетить человеческий род, приняв нам свойственную плоть и благоволив стать нашим братом» (22, 655).
Подобными аналогиями пронизан и текст романа «Иосиф и его братья». Сцена предательства Иосифа сначала за 30, а потом за 20 серебренников, спуск в колодец, который называется «адом колодца», чудесное спасение и вера в спасение — все это безошибочно относит читателя к истории жизни Иисуса Христа. Во второй части повествования Иосиф сообщает фараону, что в детстве отец звал его «агнцем» .
Но в XX веке возрождалась и другая мифология. Из глубин истории и человеческой души выплывало языческое демоническое начало. И не только в XX веке, но и во все времена наиболее прозорливые люди понимали важность проблемы демонического. Чем больше масштаб личности — тем сильнее ощущение трагизма земной жизни, тем отчетливее звучит проблема зла. И даже самые светлые гении (как правило, к концу жизни) создают нечто мистико-символическое на эту тему: Пушкин — «Каменного гостя», МоцартРеквием, Марк Твен — «Таинственного незнакомца», Диккенс -" Одержимый, или сделка с призраком", Бальзак — «Поиски Абсолюта», «Шагреневая кожа», «Эликсир долголетия», Мелвилл -" Искуситель", Мопассан — «Орля» и т. д.
В XX веке не только искусство и художественная литература, но и философия (экзистенциализм) и психология (Фрейд, Юнг) и литературоведение проявляют к проблеме демонического обостренный интерес. Немало статей на эту тему выпускает французский философ Жорж Батай, позже они составили его известную книгу «Литература и зло». Автор совершенно справедливо обращает внимание на то, что литература Запада постоянно привязана к образам зла — даже высоконравственная чистая девушка, выросшая в викторианской Англии, в семье священника — Эмилия Бронте — создает впечатляющий живой образ злодея Хитклиффа (не странно ли это? — спрашивает Ж. Батай) в романе «Грозовой перевал». Но в целом книге Ж. Батая свойственна объективистская позиция: из нее следует, что зло — естественное состояние человеческого духа, которое надо принять как должное. Такой подход весьма характерен для многих представителей нашего времени, а в литературе на основе этой идеологии возникают целые направления и школы (такие, как «черный юмор», или «театр абсурда»).
В XX веке демоническое теряет всякую театральность или условность и приобретает жуткую реальность. Демоническое выступает не в форме сказочного чудовищного или величественного (как у романтиков), а в форме привычного обыденного (стоит сравнить, скажем, посетителя Адриана Леверкюна в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна с Мефистофелем Гете).
Злое предстает нередко в образах пустого, призрачного (как это мы видим у Элиота, Фолкнера и Драйзера), заставляя вспомнить о христианской трактовке злого как несущего, нереального (в религиозной философии XX века она представлена Павлом Флоренским в его книге «Иконостас»). Пустое потому и пустое, что оно всегда остается с самим собой, будучи не способно вобрать в себя чужое, соединиться в любви и дать плоды. Бесплодная земля Элиота — наверное, самый обобщенный и точный образ Пустоты в западноевропейской литературе XX века.
Д. Щедровицкий во «Введении в Ветхий Завет» (85) отмечает, что «знать» по-древнееврейски означало «чувствовать» и «пережить». Когда бог говорит «Я знаю их скорби» — это значит Он сочувствует, переживает скорби людей как свои личные.
Именно в таком экзистенциальном смысле решается проблема личности и познания в творчестве У. Фолкнера, Р. П. Уоррена, Т. С. Элиота. В поэзии Элиота высшее знание — это духовный опыт Святых, у Фолкнера — это личная встреча человека и Бога, условием которой является смирение и страх, у Р. П. Уоррена — это проживание истины через отказ от заблуждений и эгоизма, через страдание и любовь к ближнему.
Христианство дало свое понимание личности, индивидуальности. Индивидуально то, что способно отдать себя чему-то высшему. Именно такой подход мы находим у Элиота, Фолкнера, Томаса Манна, Уоррена, Голдинга.
Идея служения, отвергнутая, а то и осмеянная некоторыми писателями XX века, например, Дж. Джойсом, была реабилиторована другими, и прежде всего, Фолкнером и Томасом Манном. Любимые персонажи Фолкнера — негритянка Дилси, Гэвин Стивене, Айк Мак-каслин — являют собой примеры рыцарского служения семье, справедливости, истине, добру.
Томас Манн в романе «Иосиф и его братья» показал, что источником величия Иакова и Иосифа Прекрасного является верность Богу. Автор считает, что «знать, кому или чему человек служит, необычайно важно» (132, т. 1, 344). У Томаса Манна вера Авраама является его выбором, его способностью принят. Бога в себя -" Великие свойства Бога, спору нет, объективно существовали вне Авраама, не в то же время они существовали и в нем и благодаря емумощь его собственной души была в иные мгновения почти неотличима от них, она, познавая, соединялась и сплавлялась с ними в одно целое, и отсюда произошел завет, заключенный потом Господом с Авраамом и явившийся лишь категорическим подтверждением факта внутреннего" (132, т. 1, 346).
В докладе о романе «Иосиф и его братья» Томас Манн отмечает, что думать о Боге — это значит выполнять его волю, «умение распознать дурное». «В нашем непослушании воли Божий следует нам искать причины той разразившейся грозы, что грохочет над нами» , — говорит Томас Манн, имея ввиду, конечно же, грозу фашизма (132, т.2, 705). Для Томаса Манна религиозность — это внимание и послушание, из которых рождается «привязанность». Союз между Богом и человеком, по Томасу Манну, является «утверждением некого внутреннего события» (о чем сказано в докладе Манна «Фрейд и будущее» (202). Поэтому очень трудно согласится с выводом очень серьезной исследовательницы творчества Томаса Манна М. Кургинян о том, что сущность финала «Иосифа и его братьев» в противопоставлении позиции богоугодной и человеческой (в пользу последней). «Высшим назначением человека, — пишет М. Кургинян, -и критерием его поступков признается не богоугодное послушание, а любовь, в которой человек становится вне повиновения» (198, 2440.
Тема отца и сына, прозвучавшая у Кафки или Камю как утверждение факта разрыва связи, у Томаса Манна, Фолкнера, Уоррена дана в прямо противоположном смысле: как необходимость ее восстановления. Долг перед прошлым, верность истине, необходимость иерархии, гармонии и порядка — все эти мотивы тесно связаны с проблемой Отца и вытекают из нее, придавая ей широкое философское звучание.
Таким образом, в эпоху, когда большинство европейцев, приверженцев демократии, радело о «правах человека», великие писатели напоминали ему также и о его обязанностях (здесь нужно отметить, что, вообще, количество не является главным показателем тех или иных процессов в культуре — поэтому в данной работе не случайно взяты лишь немногие имена, и когда мы говорим о христианских традициях, это значит, что они присутствуют у всех или у многих авторов — важно показать, что они есть и как они качественно проявляются).
Вместе с тем, тема служения не ограничивается только дилеммой верности — неверности. Есть еще ложное служение, неправильно понятый долг. Служение демоническому показал Томас Манн в романе «Доктор Фаустус», ложно понятое служение является темой его «Волшебной горы» — прагматический вариант служения мы находим в образах фолкнеровского Перси Гримма и Флема Сноуп-сау Р. П. Уоррена этот путь проходит Джек Вердену ДрайзераКлайд Гриффите.
Бунт против самой идеи служения воплощают герои Кафки и раннего Камю. Но, парадоксально то, что их протест нередко протекает в форме служения (не случайно герои Кафки — служащие банков и контор, а Сизиф у Камю бросает свой вызов, исполняя приговор богов).
И тем не менее идея служения, а также сострадания и самопожертвования ради любви не уходит из литературы XX века.
В христианской концепции человека важным моментом является также сближение понятий «унижение» и «слава», а также мысль о моральном торжестве через поражение и жертву. В работе это было показано на примере романа Фолкнера «Свет в августе», но нельзя пройти мимо еще одного интересного с этой точки зрения произведения — романа Грэма Грина «Сила и слава», написанного в 1940 году. (Не случайно и то, что идея акцентируется европейскими писателями в 30−40 годы — годы расцвета антихристианских учений — фашизма и коммунизма).
Важное значение имеет само название романа — «The Power and the Glory». Эти слова завершают самую главную христианскую молитву — «Отче наш»: «Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава Отца и Сына и Святого Духа и ныне и присно и во веки веков. Аминь» -молитву, которая была завещана Иисусом Христом и дана в тексте Нового Завета.
В романе Грина, казалось бы, никакой «силы» и «славы» нет: священник явно не похож на героя, а вокруг него сплошные трусы и предатели. Но все-таки именно он погибает за веру и людей, погибает как мученик и тем самым побеждает в споре с Лейтенантом. Что же, по Грину, «сила» и что «слава»? И к кому относятся эти олова? Священник и Лейтенант — это два разных представления о чести и долге, о служении и любви. Сила Священника — в смирении, и в этом же его слава. Отцы Церкви, комментируя распятие Иисуса, отмечали, что Он был прославлен Богом не тогда, когда въезжал в Иерусалим и когда Его прославлял народ, махая пальмовыми ветвями, а тогда, когда Он страдал на кресте, выполняя волю Божью.
Сила Лейтенанта — это сила его оружия, и поэтому он слаС) (в конце романа на его пистолет, предмет прежнего поклонения, мальчик плюет — и эта сцена читается как символическая). Слава Лейтенанта — это его земная деятельность, которая, как все земное, идущее против истины, испаряется мгновенно. Моральный крах Лейтенанта более всего обнаруживается в его собственных сомнениях относительно верности выбранной позиции после гибели Священника.
Это же психологическое доказательство обреченности неверия Грин повторяет в своем последнем произведении, пророчески названном «Последнее слово», где Генерала, казнившего последнего верующего, также охватывает страшное сомнение в правоте своих убеждений.
Не случайно и то, что в творчестве Грина 80х годов появляется образ Дон Кихота (роман «Монсеньор Кихот»): ведь у Сервантеса слава также является в образе унижения. По этому же пути шел и Достоевский, создавая своего князя Мышкина, которого он называл «князем-Христом». Вспомним и то, что Дон Кихот был одним из самых любимых образов Достоевского, а в своих дневниках Достоевский писал, что Дон Кихот велик и прекрасен тем, что он и смешон. Гриновский Кихот совершает поступок вполне в духе сервантесовского героя — бросаясь на церковную процессию и защищая Пресвятую Деву от обвивающих ее денежных купюр.
Проблема времени — одна из вечных в мировой литературе, но, наверное, ею никогда раньше не интересовались столь целенаправленно и настойчиво как в нашем столетии. Тут сыграли роль и открытия науки и новые философские учения (Бергсон) и историческая действительность: ведь временность и хрупкость жизни особенно остро ощущается на фоне катастроф.
Христианская концепция времени заключается в уверенности наступлении конца времен и преображении земной жизни, убеждения в том, что ничего не бывает случайным и все приходит в свое время. Вряд ли у кого-нибудь из современных писателей мы найдем ее в полном объеме, да художественная литература и не претендур^Еоте ет на подобную системность, поэтому в данной и были затронуты лишь некоторые аспекты этой проблемы, а именно, соотношение временного и вечного в эстетическом сознании первой половины XX века.
На наш взгляд, стремление увидеть за мимолетным, переходящим — вечное есть одна из форм поиска Бога в художественной литературе.
Отсюда мотив бессмертия и воскресения, который мы видим в поэзии Элиота, прозе Фолкнера и Томаса Вулфа. У Элиота и Фолкнера понятие времени тесно связано с понятием качества: бессмертия достойно только все лучшее, заслужившее награду, что вполне соответствует христианскому представлению о вечной жизни.
Время, конечно же, связано с психологией восприятия, но оно не является субъективной категорией. Широко распространенное в литературоведении мнение о «субъективности» Марселя Пруста, на наш взгляд, требует существенной корректировки: временное у Пруста является отражением вечности, а за конкретными образами он видит идеи и закономерности. Именно в диалектике общего и индивидуального, мимолетного и непреходящего и состоит своеобразие поэтики Пруста.
В XX веке возрождается тип мифологического времени. К этой проблеме обостренный интерес проявляет современное литературоведение. Для фрейдистов и некоторых последователей К. Юнга все мифы имеют равное значение. Христианский мифологизм не имеет ничего общего с этим направлением. Мифологическая критика, отыскивая архетипы и символы, как правило, отрывает миф от мировоззрения (в данной работе это было показано на примере книги В. Скафф об Элиоте) (288).
На наш взгляд, какие бы древние ритуалы не описывал Элиот, как бы он ни цитировал Будду или Тиресия, он ни на миг не становится ни буддистом, ни античным греком: в своей основе, в мысли и чувстве он остается европейцем-христианином. Сколько бы Драйзер Hi? интересовался восточными учениями, он смотрит на мир и человека не глазами индийского йога, а глазами американца XX века с его пуританским прошлым. Как бы красочно ни изображал Фолкнер индейские верования и обычаи (например, в повести «Медведь»), его мифология, его вера имеют отнюдь не индейские корни, а те, которые создали всю западноевропейскую цивилизацию — христианские. Что Фолкнер и подчеркивает в самом начале повести, говоря, что охотники пили виски «не в низменной и тщетной надежде язычника, что питье даст сноровку, силу и проворство, а в ч е с ть этих высоких качеств» (138, 330).
Нельзя сказать, что языческая мифология не представляет для европейца XX века никакой опасности и является лишь внешним фактором, напротив, мы видим ее возрождение и в культуре и в политике (взять хотя бы фашизм), но значит, тем более важно разграничивать понятия, не смешивая все мифологии в один котел.
Мифологическое в христианстве — не просто повторяющееся, как древнегреческий Дионис, который умирает и воскресает каждый раз вновь. В христианской мифологии произошли лишь один раз в истории единственные уникальные события с единственными уникальными личностями — Девой Марией и Христом в центре — и их повторение в религиозном календаре есть лишь напоминание об их уникальности. Христианству как ни одна другая мифология, поднимает личность и личное. А вся западноевропейская цивилизация построена именно на этом. Христианство для Европы не является лишь одной из мифологий, оно является основой, стержнем, подземной рекой всей европейской культуры.
По мнению П. Тиллиха, «время обладает качественным характером», это не пустой сосуд, способный вместить любое содержание. «Тонкое языковое чутье заставило греков обозначить „хронос“, формальное время, словом, отличным от „кайрос“, подлинное время, момент, наполненный содержанием и смыслом. И не случайно, что слово „кайрос“ обрело глубину смысла и стало столь часто употребительным, когда греческий язык стал сосудом, который вместил динамический дух иудаизма и раннего христианства. „Мое время еще не настало“ , — было сказано Иисусом (Иоанн, 7, 6) и затем оно пришло: это кайрос, момент полноты времени» (68, 217).
Именно такой тип времени возобладал в литературе XX века. В вечности время в наибольшей степени становится «кайрос». Если в ХИХ веке в литературе, в романе был открыт (романтиками) принцип историзма — времени в его земной протяженности, то в XX веке писателей больше интересует соотношение временного и вневременного.
Теоретики модернизма объявили о «смерти героя» (и такие заявления не были беспочвенными), но вместе с тем мы видим, что в литературе происходит возвращение к Идеалу. А наивысшим Идеалом для европейца является Иисус Христос.
Христос XX века в отличие, скажем, от средневекового представления, не является цельным и гармоничным образом. Мы видим в нем следы все той же катастрофичности, которые вообще характерны для нашего времени. Таков, например, Христос Уильяма Фолкнера. Возможно, это было формой полемики писателя с образом улыбающегося Христа некоторых протестантских общин.
В культуре XX века происходит резкое разграничение низких (так называемая, «массовая культура») и высоких уровней. Это сказалось и на восприятия личности Спасителя: в массовой культуре, а также в западной церкви мы видим попытку приблизить Христа к человеку через отказ от глубины прочтения Евангелия и снятия его трагического пафоса. Большие художники чувствуют здесь опасность исчезновения христианства вообще. Поэтому появляются такие странные образы как фолкнеровский Бенджи, Кристмас и Капрал (в «Притче»).
Думается, именно с этим связан особый акцент на теме страданий в книге Франсуа Мориака «Жизнь Иисуса». Название книги полностью повторяет известное сочинение Эрнеста Ренана, и в этом была полемика Мориака со своим предшественником, который нарисовал образ «сладкого», «розового» Христа. Временами Христос Мориака (и в этом он перекликается с Фолкнером) напоминает военачальника, идущего на приступ крепости — идет борьба за души грешников (таков Иисус у Мориака в эпизоде с Самарянкой). Мориак любит властные, повелительные интонации Господа, та как в XX веке многие уже забыли (или хотят забыть), что Он — не только милосердный Бог, но и строгий Судия. По мнению Мориака, современный человек способен приблизиться к Богу только через свое страдание, через сочувствие к Его страданиям.
Христианство нашло отражение в художественной литературе не только на уровне идей, но и на уровне поэтики и проявилось очень разнообразно. Вот некоторые из этих особенностей: парадоксальность, диалектичность образовсимволика языка и метафоричность стилямифологизм художественного времениобращение к жанру притчиособая значимость именскрытое или открытое цитирование Евангельского текстаперекличка и повторение отдельных образов и мотивов, относящих нас к Священному писанию.
Присутствие Идеала-Христа у большинства писателей дано не прямо, а косвенно — в подтексте, аллюзиях и скрытом цитировании. Чаще всего мы встречаем невидимого Бога, который судит современный мир — мир «бесплодной земли» просто самим фактом своего существования. Это было показано на примере поэзии Т. С. Элиота. Но примеры можно и продолжить.
Так очень убедительно и ненавязчиво подобный прием применен Генрихом Белем в его ранней повести «И не сказал ни единого слова». Христос присутствует незримо на страницах этого произведения — в молчании, в кресте, который терпеливо несет по жизни героиня повести Кэте Богнер. Тема молчаливого терпения внесена Белем в название. Фраза «И не сказал ни единого слова» звучит в тексте не по-немецки, по-английски, причем на негритянском диалекте (это слова из песни, которую поет на улице негрКэте лишь слышит ее из своей квартиры, но она западает ей в душу, повторяясь потом на протяжении всего повествования и становясь лейтмотивом повести). Чрезвычайно важен и фон, контекст, в который вмонтирована эта фраза — «Со двора до меня доносятся обрывки трех церковных служб, двух концертов легкой музыки, какого-то доклада и хриплое пение негра, которое проникает повсюду, и только это пение доходит до моего сердца and he never said a mumbling word.. и не сказал ни единого слова.
Быть может, Фред достанет денег, и мы пойдем танцевать. Я куплю новую губную помаду. До меня по-прежнему долетает мягкое и в то же время хриплое завывание негра, оно прорывается сквозь две водянистые проповеди, и я чувствую, что во мне растет ненависть, ненависть к голосам проповедников, чья болтовня подбирается ко мне словно плесень dey nailed him to the cross, nailed him to the cross они распяли его на кресте, распяли его на кресте.
Да, сегодня воскресенье, и в нашей комнате пахнет жарким, и одного этого достаточно, чтобы довести меня до слезя готова плакать, видя, как радуются дети, ведь они так редко едят мясо! .and he never said a mumbling word. .и не сказал ни единого слова" .
106,52−53).
Распятый Христос живет у беля не в официальной церкви, не в ученых докладах — а где-то на обочине жизни, на улице, в пении нищего негра — и в сердцах людей («смиренных и сокрушенных»). Эта фраза повторяется в сцене со слабоумным ребенком в кафе — «Он не может говорить, как люди, мой сын, — сказал старик, и как звери тоже, он не произносит ни единого словё (106, 90).
В современном мире происходит дискредитация святых понятий и слов, поэтому Бог у Беля обретается в тишине и молчании. Все персонажи повести делятся автором на громких и тихих. Громко говорит хозяйка (крайне неприятная особа), епископ в церкви, но Кэте, дети, мать Фреда — все они незаметные, негромкие. Любимое место прогулок Фреда — кладбище, здесь он находит душевный покой.
Вообще в этом произведении слуховые образы гораздо важнее, чем зрительные. Профессия Фреда (телефонист) приобретает символическое звучание. Во время войны он по телефону передавал приказы о наступлении — сама смерть шла по проводам. И, хотя непосредственно Фред не участвовал в сражениях, по существу он причастен к убийствам, он был проводником зла. Это приводит героя к нравственной травме, и спасает его только терпение его жены, которая мужественно переносит все житейские невзгоды, «не говоря ни единого слова». А образцом, высшим идеалом такого поведения является терпение распятого Господа. Действие повести происходит в течение одного дня — в воскресенье — и в конце появляется надежда на нравственное воскресение Фреда — он, очевидно, принял решение о возвращении домой: к своей жене и к своим обязанностям.
Святитель Игнатий Брянчанинов в «Аскетической проповеди» писал о двух видах креста — своем, личном, и Христовом. В каком случае свой крест (болезни, неприятности, испытания) превращаются в крест Христов? По И. Брянчанинову, все дело в отношении человека к тем трудностям, которые выпадают ему: если они принимаются терпеливо и с благодарностью к Богу, то приравниваются к подвигу.
Серен Кьеркегор также повседневный героизм обыкновенной жизни ставит выше подвигов на войне и в общественной деятельности, которые обычно награждаются властями. «Чем выше награда, из-за которой берется человек, — пишет С. Кьеркегор в работе „Наслаждение и долг“ , — тем меньше с его стороны заслуги. чем меньше награда, тем больше чести для борца-победителя» (31, 266-).
Тема креста — одна из центральных в творчестве Уильяма Фолкнера. Если бы даже у Фолкнера не было образов Бенджи, Кри-стамаса и Капрала, прямо соотнесенных с Христом, мы бы нашли Его в терпении и стойкости других героев — качеств, занимающих на этической шкале Фолкнера, пожалуй, самое высокое место.
Терпение у Фолкнера — это своеобразная жертва человека Богу. В повести «Медведь», рассуждая о том, что земля проклята, автор устами Айзека Маккаслина говорит о том, что нужно не противостоять проклятию, не бороться с ним, а «просто дотерпеть, дотянуть до той поры, когда оно будет снято». Жизнь — это, вообще, то, что надо вытерпеть.
По Фолкнеру терпение необходимо не только отдельным людям, но и целым народам. Так, главным достоинством чернокожего населения Америки называется «выносливость, состраданье, терпимость и терпенье» .
Терпение настолько высокое качество у Фолкнера, что оно реабилитирует даже людей, охваченных чувством ненависти и мести — как Минк Сноупс. В романе «Сарторис» Фолкнером было воспето даже «злобное терпение» рабочего мула хлопковых полей, который, как сказано в романе, один «сохранил неизменную верность этой земле, когда все остальное дрогнуло под натиском безжалостной колесницы обстоятельств» (138, 242).
И, наоборот, моральное поражение таких сильных личностей, как Томас Сатпен, Фолкнер объясняет «то ли духовной, то ли физической потребностью торопиться». Сатпена Фолкнер называет «рабом своего нетерпения» — «он жил как в свирепой гонке», с «убеждением, что надо спешить, что время уходит» .
Романы Фолкнера построены так, что они и от читателя требуют немалого терпения — спокойного, вдумчивого, неспешного чтения.
Терпение было бы бессмысленно в мире нестабильных ценностей и относительных истин. Не таков мир Фолкнера. Автор верит в существование объективных Добра и Зла. И терпение является именно одной из форм преодоления зла. Ведь, как писал Св. Августин, «никто не любит того, что он терпит, если даже и любит терпение. И пусть он и радуется своему терпению, все же он предпочел бы, чтобы нечего было терпеть» (1, 146).
Качество терпения было необходимо первым американским поселенцам, и не случайно требование труда стало важнейшей религиозной заповедью. Пуританские традиции определили национальное своеобразие творчества Фолкнера и Драйзера. Тогда как у Пруста, например, мы видим влияние католической образности и живописности. С точки зрения воплощения учения католической церкви в литературе большой интерес представляет также роман И. Во «Возвращение в Брайдсхед», в самой атмосфере которого царит дух католицизма.
Что происходит с христианскими традициями во второй половине XX века? В 70-е годы наблюдается новый этап религиозного возрождения (так называемая, «Иисус революция»). Яркие события этого времени — рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда», движение мирных хиппи, «детей цветов», которые вышли на улицы с проповедью любви и ненасилия, публикация статей Джона Гарднера «О нравственности в литературе». И можно спорить с формами восприятия христианства в эти годы, но отрицать факт взрыва интереса к нему в обществе невозможно.
В изображении духовных и нравственных проблем традиции Драйзера продолжает Джон Апдайк (в романе «Кролик, беги» мы видим тот же национальный тип инфантильной личности со следами религиозного беспокойства, которое не может удовлетворить протестантская церковь, которая у Апдайка, правда, изображена еще более сатирически, чем у Драйзера) — традиции Фолкнера — Джон Гарднер (в его глубоком анализе пуританских истоков в романе «Октябрьский свет»).
Конечно, был и «новый роман», и «черный юмор», и «драма абсурда» .
Но даже и авангардные школы, если их прочитать не как воплощение абсурдного мира, а как мысль об абсурдности житейского, лишенного высших ценностей и смысла, вне их связи с абсолютной реальностью (а такое прочтение, по крайней мере, некоторых пьес С. Беккета или Ионеско, на наш взгляд, возможно), скажутся не полностью исключенными из христианской традиции европейской культуры.
Томас Манн в статье «Путешествие по морю с Дон Кихотом» пишет: «Что бы ни говорили — христианство. является одним из двух устоев, на которых зиждется западная цивилизациявторойантичное Средиземноморье. Отрицание теми или иными из числа народов, объединенных западной цивилизацией, хотя бы одной из этих основных предпосылок нашей морали и образованности, или их обеих, повлекло бы за собой выход этих народов из этого объединения и невообразимый, в прочем, — благодарение Богу! — совершенно неосуществимый поворот человечества вспять, до какого предела — не знаю. Яростная борьба Ницше, этого поклонника Паскаля, с христианством была противоестественной причудой и, по правде сказать, всегда ставила меня в тупик. Гете, более уравновешенный духовно и более свободный, несмотря на все свое убежденное язычество, с изумительной яркостью выразил свое преклонение перед христианством, воспринимая его как ту смягчающую нравы силу, которою оно является, и как своего союзника. В такие времена, как наше, всегда склонные смешивать то, что присуще данной эпохе, с непреходящим (например, либерализм — со свободой) и вместе с водой выплескивают ребенка, — в такие времена всякий сколько-нибудь вдумчивый и духовно свободный человек, не только несущийся по воле своего века, испытывает потребность вновь поразмыслить о непреложных основах, вновь их осознать и отстаивать. Критика, которой наш век подвергает христианскую мораль (не говоря уже о догме и мифологии), поправки, вносимые в нее соответственно современному жизнеощущению, -как бы далеко они не заходили, как бы значительно они ее не преобразовывали, все же касаются лишь поверхности. Сокровенных глубин — всего того, что созидает, определяет и связует, христианской культуры людей Запада, того, что, однажды будучи обретено, уже не может быть утрачено, — они не затрагивают» (201, 212).
Мы разделяем оптимизм великого немецкого классика, оптимизм не легковесный, но укрепленный большой образованностью, умом и талантом, и считаем, что под внешним чуждым слоем в культуре XX века таится живое и цементирующее начало христианской мысли, христианской культуры.
Художественная образность, рассмотренная в контексте философской и публицистической мысли, показывает, что у них есть общий исток, уходящий далеко в глубь веков, в то же время позволяет раскрыть и специфику каждого из этих способов (прежде всего, в данной работе — эстетического) воплощения христианского идеала.
Список литературы
- Богословие и философия
- Августин Аврелий. Исповедь. М.: Республика, 1992. 325 с.
- Андрей, Арх. Кесарийский. Толкование на Апокалипсис. М.: Типография Н. Ефимова, 1901. 220 с.
- Арсеньев Н.С. О смысле культуры // Русские философы (конец 19 середина 20 века). М.: Книжная палата, 1993. С. 41−48.
- Афанасий Великий, Святитель. Творения в 4 т. Репринтное издание. М.: Издание Свято-Преображенского Валаамова монастыря, 1994. Т. 1 -469 е., т. 2−494 е., т. 3−524 е., т. 4−479 с.
- Бергсон А. Длительность и одновременность. Петербург, 1923. 240 с.
- Библия Толковая или Комментарий на все Книги Св. Писания Ветхаго и Новаго Завета / Под ред. А. П. Лопухина. Петербург, 19 041 913. Репринтное изд. Стокгольм, 1987. В 3 т. Т. 1 502 е., т. 2 -341 е., т. 3−609 с.
- Библейская Энциклопедия. М.: Типография А. И. Снегиревой. Репринтное издание. М.: Терра, 1991. 902 с.
- Бибихин В.В. Философия и религия // Вопросы философии. 1992. № 7.
- Богослов Григорий, Святитель. Собрание творений. Репринтное издание. В 3 т. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. Т.1 -680 е., т. 2−596 с.
- Брянчанинов Игнатий, Святитель. Собр. соч. В 4 т. М.: Издание Донского монастыря, 1993. Т. 1 412 е., т. 2−413 е., т. 3 — 315 е., т. 4−540 с.
- Булгаков Сергий, Прот. Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования). М.: Православное общество трезвости «Отрада и утешение», 1991. 340 с.
- Булгаков С.Н. Воскресение Христа и современное сознание // Русские философы (конец 19-середина 20 века). М.: Книжная палата, 1993. С. 81−89.
- Василий Великий, Арх. Кесарии Каппадокийския. Беседы на Шестоднев. Ч. 1. М.: Типография Августа Семена, 1845. 404 с.
- Вышеславцев В.П. Этика преображенного эроса. М.: Республика, 1994. 368 с.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод (Основы философской герменевтики). Пер с нем. М.: Прогресс, 1988. 700 с.
- Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. Пер. с нем. М.: Искусство, 1991. 350 с.
- Гайденко П.П. Природа в религиозном восприятии // Вопросы философии. 1995. № 3.
- Добротолюбие. В 5 т. Репринтное издание. М.: Свято-Троицкая Лавра, 1992. Т. 4. 634 с.
- Дондейн А. Христианская вера и современная мысль. Брюссель, 1974. 345 с.
- Златоустый Иоанн, Арх. Константинопольский. Беседы на Книгу бытия. М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. Т. 1 -455 е., т. 2−480 с.
- Златоустый Иоанн, Арх. Константинопольский. Беседы на Евангелие Иоанна Богослова. М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. Т. 1 463 е., т. 2 — 455 с.
- Златоустый Иоанн, Арх. Константинопольский. Толкование на Святого Матфея Евангелиста. М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. Т. 1−471 е., т. 2−430 с.
- Иоанн, Преп., Игумен Синайской горы. Лествица. Сергиев Посад: Издательство Свято-Троицкой Лавры, 1908. 90 с.
- Ильин И.А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993. 420 с.
- Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. М.: ТОО Рарогь, 1993. 446 с.
- Камю А. Миф о Сизифе // Камю А. Сборник произведений. М.: Фабр, 1993. С. 471−555.
- Карсавин Л.П. О бессмертии души // Русские философы. М.: Книжная палата, 1993. С. 259−289.
- Киселева М.С. Мера и вера // Вопросы философии. 1995. № 8.
- Киркегор С. Наслаждение и долг. Киев, 1994. 504 с.
- Коган Л. Жизнь как бессмертие // Вопросы философии.1994. № 12.
- Королев А. Блудный сын // Знамя. 1994. № 4. С. 203−210.
- Кураев А. О вере и знании // Вопросы философии. 1992. № 7.
- Кьеркегор С. Страх и трепет. М.: Республика, 1993. 383 с.
- Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1976. 354 с.
- Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М.: Правда, 1990. 655с.
- Лосский Н.С. Бог и мировое зло. М.: Республика, 1994. 430с.
- Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М.: Ад Маргинем, 1995. 545 с.
- Марсель Г. Быть и иметь. Новочеркасск: Сагуна, 1994. 160с.
- Марутаев А. О гармонии мира // Вопросы философии, 1994.6.
- Мережковский Дм. Иисус Неизвестный. М.: Республика, 1996. Т. 1,2.684 с.
- Мориак Ф. Жизнь Иисуса. М.: Мир, 1991. 238 с.
- Никитин Е.П., Харламенкова Н. Е. Проблема самоутверждения личности в философии // Вопросы философии. 1995. № 8.
- Нибур Ричард X. Христос и культура // Христос и культура. М.: Юрист, 1996. С. 7−225.
- Нибур Ричард X. Радикальный монотеизм и западная культура // Там же. С. 225−375.
- Нибур Райнхольд. Опыт интерпретации христианской этики //Там же. С. 375−514.
- Орлов М.А. История сношений человека с дьяволом. Репринтное издание. М.: Республика, 1992. 352 с.
- Ортега-и-Гассет Хосе. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. М.: искусство, 1991. С. 218— 269.
- Ортега-и-Гассет Хосе. Идеи и верования // Там же. С. 462 492.
- Ортега-и-Гассет. Адам в раю // Там же. С. 59−82.
- Палама Григорий, Святитель. Беседы. В 3 т. М.: Издание Свято-Преображенского Валаамова монастыря, 1994. Т. 1 255 е., т. 2−259 е., т. 3−247 с.
- Платон. Диалоги // Платон. Собр. соч. В 4 т. М.: Мысль, 1993. Т. 2. 527 с.
- Плотин. О бессмертии души // Вопросы философии. 1994. № 3.
- Пролог в поучениях / Сост. Прот. В. Гурьев. М.: Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992. Т. 1 -441 е., т. 2 942 с.
- Ренан Э. Жизнь Иисуса. Репринтное издание. М.: Терра, 1990.413 с.
- Розин М.В. Психология судьбы: программирование или творчество // Вопросы психологии. 1992. № 4. С. 98−105.
- Розмазер Г. Ситуация христианства в эпоху «постмодерна» глазами христианского публициста // Вопросы философии. 1991. «5.
- Соловьев B.C. Смысл любви // Соловьев B.C. Собр. соч. В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 1. С. 493−548.
- Соловьев B.C. Красота в природе // Там же. Т. 2. С. 351−390.
- Соловьев B.C. Критика отвлеченных начал // Там же. Т. 2. С. 581−757.
- Собрание писем блаженные памяти Оптинского старца Ма-кария: Издательство Козельской Введенской Оптиной Пустыни, 1862. 664 с.
- О борьбе с грехом и страстями по учению преп. Нила Сор-ского: Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1993. 112.
- Сурио Э. Искусство и философия // Вопросы философии.1994. № 7, 8.
- Тиллих П. Избранное. Теология культуры. М.: Юрист, 1995. 480 с.
- Унамуно Мигель де. О трагическом чувстве жизни. М.: Символ, 1997. 414 с.
- Феофолакт Блаж., Арх. Болгарский. Благовестник. Толкование на Евангелие от Марка. Репринтное издание. Спб., 1993. 268 с.
- Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Философское пробуждение // О России и русской философской культуре. М.: Наука, 1990. С.272−379.
- Флоренский П. Иконостас. М.: Искусство, 1994. 250 с.
- Флоренский П. Столп и утверждение истины. М.: Правда, 1990. Т. 1.488 с.
- Франк С.А. Этика нигилизма // Франк С. А. Сочинения. М.: Правда, 1990. С. 77−113.
- Франк С.А. Непостижимое // Там же. С. 183−528.
- Фрейд 3. Введение в психоанализ. М.: Наука, 1989. 450 с.
- Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 815 с.
- Хайдегер М. Время и бытие (статьи и выступления). М.: Республика, 1993. 445 с.
- Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. Спб., 1994. 446 с.
- Хоружий С.С. Исихазм как пространство философии // Вопросы философии. 1995. № 9.
- Христианство. Энциклопедический словарь / Под ред. С. С. Аверинцева. В 3 т. М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. Т. 1 661 е., т. 2 — 670 е., т. 3 — 781 с.
- Шарден Пьер Тейяр де. Феномен человека. М.: Наука, 1987. 238 с.
- Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. II Книга. Исход. М.: Теревинф, 1997. 359 с.
- Шопенгауэр Э. Мир как воля и представление. М.: Наука, 1993. Т. 1 -670 е., т. 2−668 с.
- Шпенглер О. Закат Европы. М., 1923. Т. 1. 870 с.
- Юнг К. Г. Аналитическая психология. М.: Мартис, 1995. 304 с.
- Ярская В.Н. Время в эволюции культуры: Издательство Саратовского университета, 1989.150 с.
- Ясперс К. Философская вера. Смысл и назначение истории. М., 1994.
- Hartmann N. Ethics. London-New York, 1932. 457 p.
- Jung C.J. Psychological Types. London, 1924. 356 p.
- Kierkegaard S. Attack upon „Christedom“. London, 1935. 378 p.
- Kern S. The Culture of Time and Space. Cambridge, Massachu-sets. 1983. 490 p.
- Lewis C. S. Mere Christianity. N. Y.: Collier Books. 1984. 175 p.
- Niebuhr Reinhold. An Interpretation of Christian Ethics. Harper San Francisco, 1987. 150 p.
- Niebuhr Richard. Radical Monotheism and Western Colture. N. Y. 1960. 387 p.
- Ross S. Literature. Philosophy. N. Y. 1969. 432 p.
- Schweitzer A. The Quest of the Historical Jesus. London. 1926. 345 p.
- Schweitzer A. The Mystery of the Kingdom of God. N. Y. 1914. 234 p.
- Tillich P. The Courage to Be. N. Y. 1952. 120 p.
- Tillich P. Christianity and the Encounter of the World Religions. Columbia university press and London. 1963. 97 p.
- Troeltsch E. Christian Thought. Its History and Application. London, 1923. 456 p.1. Художественные тексты
- Брох Г. Смерть Вергилия // Брох Г. Сборник. Серия „Мастера современной прозы“. М.: радуга, 1990. С. 241−559.
- Бодлер Ш. Цветы зла. М.: Наука, 1970. 480 с.
- Гете В. Фауст // Гете В. Собр. соч. В 3 т. / Под ред. А. Е. Грузинского. М.: Типография А. А. Левенсон, 1912. Т. 3. 333 с.
- Драйзер Т. Дженни Герхарт // Там же. Т. 2. 345 с.
- Драйзер Т. Американская трагедия // Там же. Т. 7 463 е., т. 8 — 462 с.
- Драйзер Т. Оплот // Там же. Т. 9. 325 с.
- Камю А. Счастливая смерть // Камю А. Сборник произведений. М.: Фабр, 1993. С. 25−105.
- Камю А. Посторонний // Камю А. Избранное. М.: Прогресс, 1969. С. 49−133.
- Камю А. Чума П Там же. С. 133−379.
- Камю А. Падение // Там же. С. 379−463.
- Кафка Ф. Из дневников. Письмо к отцу. М.: Известия, 1988. 255 с.
- Кафка Ф. Избранное. М.: Радуга, 1989. 576 с.
- Манн Т. Доктор Фаустус // там же. Т. 5. 694 с.
- Манн т. Волшебная гора // Там же. Т. 3. 480 с.
- Манн Т. Избранник // Там же. Т. 6. 267 с.
- Манн Т. Иосиф и его братья. М.: Правда, 1991. Т. 1 718 е., т. 2−719 с.
- Пруст М. В сторону Свана. Л.: Советский писатель, 1992. 475 с.
- Пруст М. У Германтов. М.: Крус, 1992. 555 с.
- Фолкнеру. Особняк. М.: Правда, 1982. 446 с.
- Фолкнер У. Лисья травля // Фолкнер У. Собрание рассказов. М.: Наука, 1977. 631 с. С. 367−380.
- Фолкнер У. Нагорная победа // Там же. С. 467−489.
- Фолкнер У. По ту сторону // Там же. С. 489−501.
- Фолкнер У. Каркассон //Там же. С. 563−569.
- Фолкнеру. Изо дня вдень. М.: Правда, 1979. 48 с.
- Фолкнер У. Пестрые лошадки. М.: Высшая школа, 1990. 604 с.
- Фолкнер У. Святилище. М.: Анстар, 1992. 128 с.
- Фолкнер У. Притча // Подъем. 1989. № 10−12- 1990. № 1−5.
- Элиот Т.С. Избранная поэзия. Поэмы. Лирика. Драматическая поэзия. Спб.: Северо-Запад, 1994. 446 с.
- Эриа Ф. Испорченные дети. М.: Правда, 1991. С. 15−294.
- Dreiser Т. Sister Carrie. Moscow: Higher School Publishing House, 1968. 593 p.
- Dreiser T. An American Tragedy. Moscow: FLPH, 1951. Vol. 1 -605 p., vol. 2−402 p.
- Dreiser T. The Bulwark. N.Y.: Garden City, 1946. 350 p.
- Eliot T.S. Selected Poetry. St. Peterburg: Severo-Zapad, 1994. 446 p.
- Golding W. Lord of the Flies. Moscow: Progress Publishers, 1982.480 р.
- Green G. The Power and the Glory. London, 1940. 420 p.
- Faulkner W. The Sound and the Fury. N.Y.: Penguin Books, 1946. 356 p.
- Faulkner W. Absolam, Absolam! Moscow: Progress Publishers, 1982. 412 p.
- Faulkner W. Light in August. Penguin Books, 1960. 450 p.
- Faulkner W. Go Down, Moses and Other Stories. London, 1960. 438 p.
- Faulkner W. The Hamlet. N.Y.: Random Youse, 1968. 398 p.
- Faulkner W. The Mansion. N.Y.: Random House, 1957. 420 p.
- Faulkner W. Sartoris. N.Y.: Random House, 1964. 319 p.
- Faulkner W. A Fable. N.Y., 1968. 381 p.
- The Portable Faulkner. Ed. By Malkolm Cowly. Penguin Books, 1977.715 p.
- Faulkner W. As I lay Dying. N.Y.: Vintage Books, 1957. 433 p.
- Warren Robert Penn. All the King’s Men. N.Y.: Bantam Books, 1971.438 p.
- Warren Robert Penn. Night Rider. Random Hause. 1968. 3781. P
- Warren Robert Penn. The World is a Parable. Original Sin: A Short Story. II American Poetry in Russian Translations. Moscow: Raduga, 1983. P.352−353.
- Wolfe T. Look Homeward, Angel! A Story of the Buried Life. N.Y., 1929. 577 p.
- Wolfe T. Of Time and the River. A Legend of Man’s Hunger in His Youth. N.Y.: Charles Scribner’s Sons. 1935. 912 p.
- Wolfe T. The Web and the Rock. N.Y., 1939. 876 p.
- Wolfe T. You can’t Go Home Again. N.Y., 1942. 768 p.
- Аникст А. Гете и Фауст. М.: Книга, 1983. 270 с.
- Бердяев H. Кризис искусства. M.: Издание Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1918. 47 с.
- Большаков В.П. Между искусством и теологией // Вопросы философии, 1994. № 7. С. 92−93.
- Булгаков С. Труп красоты // Булгаков С. Статьи. Воронеж. 1995.75 с.
- Великовский С. Грани „несчасного сознания“. Театр, проза, философская эстетика, эстетика Апьбера Камю. М.: Искусство, 1973.238 с.
- Вулф Томас. Жажда творчества. Статьи. Дневники. Письма. М.: Прогресс, 1989. 405 с.
- Выготский Л.С. Психология искусства. Издание второе. М. 1968.
- Гордеева Е.Ю. „Трилогия желания“ Драйзера: концепция и авторская точка зрения. Автореферат канд. Дисс. Нижний Новгород, 1996, 20 с.
- Затонский Д. Франц Кафка и проблемы модернизма. М. 1965.
- Ионкис Г. Э. Английская поэзия XX века. М.: Высшая школа. 1980, 199 с.
- Камю Апьбер. Нобелевская речь // Камю А. Сборник произведений. М.: Фабр, 1993. С. 555−561.
- Камю Альбер. Надежда и абсурд в творчестве Кафки // Камю А. Сборник произведений. М.: Фабр, 1993. С. 544−552.
- Курбатов Валентин. По образу и подобию // Москва, 1994.1.
- Манн Томас. Иосиф и его братья. Доклад. // Манн Т. Иосиф и его братья. М.: Правда, ч. I. С. 702−715.
- Маттисен Ф. О. Ответственность критики. М.: Прогресс, 1972. 375 с.
- Ортега-и-Гассет X. Время, расстояние и форма в искусстве Пруста // Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991. 585 с.
- Розанов В.В. О символистах и декадентах // Розанов В. В. Религия и культура. М.: 1990.
- Руднев Вадим. Морфология реальности. Исследование по „философии текста“. М.: „Гнозис“, 1996. 206 с.
- Соловьев С. М. Древняя Россия // Соловьев С. М. Сочинения. Книга 16. М. Мысль, 1995. С. 261.
- Солодовник В. И. Роман в США второй половины XIX века: проблемы типологии реализма. Краснодар, 1994. 185 с.
- Сучков Б. Роман миф. // Манн Т. Иосиф и его братья. М.: Правда, 1991. С. 3−26.
- Фолкнер У. О частной жизни. // Там же. С. 300−310.
- Хоружий С. С. „Улисс“ в русском зеркале. М.: „Тетра“, 1994,243 с.
- Шарп Д. Незримый ворон. Конфликт и трансформация в жизни Франца Кафки. Воронеж: ИГО „МОДЭК“, 1994. 225 с.
- Эбанидзе И. А. Личность автора в художественном пространстве ранних новелл Томаса Манна. Автореферат канд. Дисс. М. 1994. 24 с.
- Элиот Т. С. Назначение поэзии. Киев, Москва: ЗАО. „Совершенство“, 1997. 350 с.
- Элиот Т. С. Социальное назначение поэзии. // Там же. С. 160−172.
- Albright D. Personality and Impersonality: Lawrence, Wolf and Thomas Mann. Chicago, London: Univ. Of Chicago Press, 1978. 320 p.
- American Literary Criticism. 1900−1950. Ed. By Ch.J. Glicks-berg. N. Y.: Hendricks House, 1951. 564 p.
- A Time of Harvest. American Literature, 1910−1960. Ed. By R.E. Spiller. N. Y.: Hill and Wang. 1963.
- Baker J. Time and Mind in Wordsworth’s Poetry. Detroit. 1980. 212 p.
- Bedell G.C. Kierkegaard and Fauekner. Baton Rouge: Lousi-ana State Univ. Press. 1972. 261 p.
- Bradbury John M. Tate as Critic. Ransom as Critic. Brooks and Warren as Critics // Brabbary John. The Fugitives. A critical Account. The Univ. Of North Carolina Press. 1958. P. 107−125, 125−146, 231 255.
- Brooker J.S. T.S. Eliot. In Dictionary of Literary Biography. Vol. 45. American Poets, 1880−1945. First Series, Ed. Peter Quartermain, 1986.
- Brooks Cleanth. The Hidden God. New Hawen, 1963. 136 p.
- Brooks CI., Warren R.P. Understanding Poetry. N. Y.: Holt, Vinehart and Winston, 1960. 582 p.
- Brooks CI., Warren R.P. Understanding Fiction. Appletion -Centure Crofts, 1959. 689 p.
- Brooks Cleanth. „The Waste Land: Critique of the Myth“ // Brooks CI. Modern Poetry and Tradition. Chapel Hill, Univ. Of North Carolina Press, 1939. P. 136−172.
- Braswell W., Field L.A. Thomas Wolfe’s Purdue Speech „Writing and Living“, West Lafayette: Pudue Univ. Studies, 1964.
- Burr John. Philosophy and Contemporary Issues. N. Y.: Mac-millan Publishing Company, 1988. 529 p.
- Canary R.H. T.S. Eliot: The Poet and his Critics. Chicago, 1982. 392 p.
- Cowley Malcolm. The Literary Situation. N. Y.: The Viking Press, 1954.
- Cowley Malcolm. Introduction. //The Portable Faulkner. Ed. M. Cowley. N. Y.: Penguin Books, 1977. P. VII-XXXIII.
- Doody T. Confession and Community in the Novel. London: Baton Rouge. Louisiana State univ. Press, 1980. 200 p.
- Emerson O. B. Faulkner’s Early Literary Reputation in America. Ann Arbor (Mich.), 1984. 420 p.
- Eliot T. S. On Poetry and Poets. London. 1957. 156 p.
- Eliot T. S. Tradition and the Individual Talent // Eliot T.S. Selected Essays. London, 1951. P. 13−22.
- Fowler D. Faulkner’s Changing Vision: From Outrage to affirmation. Ann Arbor (Mich), 1983. 94 p.
- Frye Northrop. The Great Code: The Bible and Literature. London: Routledge, 1982. 861 p.
- Gardner H. Religion and Literature. Oxvord: Oxvord Univ. Press, 1983. 194 p.
- Girgus S.B. The Law of the Heart: Individualism and the Modern Self in American Literature. Univ. Of Texas Press, 1979. 180 p.
- Grant Michael (Ed.) T.S. Eliot: The Critical Heritage. 2 volumes. London: Routledge & Kegan Paul, 1982.
- Hall Donald. Notes on T.S. Eliot // Hall D. Remembering Poets. N. Y.: Harper. P. 77−100.
- Hakutani Y. Young Dreiser: A Critical Study. London, 1980. 228 p.
- Hlavsa V.V. The Mirror, the Lamp, and the Bed: Faulkner and the Modernists. Durham, 1985, 1985, Vol. 57. N. I. O. 23−44.
- Hoffman F.J. The Art of Southern Fiction. London and Arm-sterdam, 1968. 190 p.
- Holman C. Hugh. Thomas Wolfe: The Epic of the National Self // Holfman C. H. Three Modes of Modern Southern Fiction. Athens, 1966. P. 49−73.
- Holman C. Hugh. William Faulkner: The Anguished Dream of time. Athens: Univ. of Gerrgian Press, 1966. 95 p.
- Heinemann Richard. Kafka’s Oath of Service: „Der Bau“ and the Dialectic of Bureaucratic Mind // PMLA (Publications of the Modern Language Association of America), 1996. March. Vol. Ill number 2. P. 256−270.
- Intertextuality in Faulkner. Ed. M. Gresset. N. Polk. Jackson: Univ. Press of Mississippi, 1985. 217 p.
- Karanikas A.L. Tillers of a Myth. Madison. London. 1969. 2511. P
- Karl F.R. William Faulkner: American Writer. A Biography. N. Y. 1989.
- Kazin A. An American Procession: The Major American Writers from 1830 to 1930. The Crucial Century. N. Y.: Knopf, 1984. 408 p.
- Kinney A. F. Faulkner’s Narrative Poetics: Style AS Vision. Amherst: Univ. Of Massachusetts Press, 1978, Will, 285 p.
- Kerr E.M. William Faulknerr’s Gothic Domain. Port Washington, N. Y» London, 1979. 264 p.
- Kelly H.A. Tragedy and Comedy from Dante to Pseudo-Dante. Berkley etc. Univ. of California Press, 1989. 134 p.
- Kirk Russel. Eliot and His Age: T. S. Eliot’s Moral Imagination // The Twentieth Century. N. Y.: Random House, 1971.
- Lobb E. T. S. Eliot and the Romantic Critical Tradition. London, 1981. 194 p.
- Levinson M. A Genealogy of Modernism: A Study af English Literary Doctrine. 1908−1922. Cambridg, 1984. 250 p.
- Lewis C. S. Mere Christianity. Coller Books, 1992. 175 p.
- Minter D. William Faulkner: His Life and Work. N. Y. 1981. 3251. P
- Millichap J. P. Robert Penn Warren: A study of the Short Fiction. N. Y.: Twayne. 1992. 146 p.
- Murphy D. Imagination and Religion in Anglo-Irish Literature, 1930−1980. Dublin, 1987. 228 p.
- Mc Elderry. Thomas Wolfe. N. Y. 1964. 345 p.
- Norson G. S. Narrative and Freedom: The Shadows of Time. New Haven: Yale Univ. Press, 1994, XIV, 331 p.
- Novak Michael. Introduction // Faulkner W. A Fable. N. Y.: A Signet Classic from New American library. P. VII—XXIII.
- Orr J. The Making of Twentieth Century Novel: Lawrence, Joyce, Faulkner. Basingatocke, L. Macmillan, 1987. 219 p.
- Parker R. D. Faulkner and the Novelistic Imagination. Urbana. Chicago: Univ. of lllionois Press, 1985. 168 p.
- Pascal R. Kafka’s Narrators: A Study of His Stories and Scetches. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1982. 251 p.
- Ransom J. C. God Without Thunder. N. Y.: Random House, 1930. 120 p.
- Reilly P. The Literature of Guilt: From Gulliver to Golding. London: Basinstoke, 1988. 178 p.
- Richadson R. D. Myth and Literature in the American Renaissance. Blloomington: Indiana Univ. Press. 1978. 309 p.
- Simon U. Pity and Terror: Christianity and Tragedy. London: Basinystroke. 1989, XYI. 152 p.
- Skaff W. The Philosophy of T. S. Eliot: From Skepicism to a Surrealist Poetic, 1904−1927. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1986. 248 p.
- Skei H. H. The Novelist as Short Story Writer: A Study of W. Faulkner’s Short Storeise. Oslo: Univ. of Oslo, 1988, XII. 625 p.
- Spiller R. E. Late Harvest: Essay Adresses in American Literature and Culture. Westport. London, 1981, XI. 281 p.
- Stewart V. Three Dementions of Poetry. N. Y. 1969.
- Taylor Dennis. The Need for a Religious Literary Criticism // Religion and the Arts. A Journal from Boston College. Vol. I. Number I. Fall, 1996. P. 124−150.
- The Achivement of American Criticism. Ed. C. A. Brown. N. Y.: The Ronald Press, 1954. 535 p.
- The Enigma of Thomas Wolfe. Ed. R. Walser. Cambridge, Harvard Univ. Press, 1953.
- The Letters of Thomas Wolfe. Ed. E. Nowell. N. Y.: Charles Scribner’s Sons, 1956.
- The Idea of an American Novel. Ed. L. Rubin and J. Moore. N. Y. 1961.
- Warrwn R. P. Homage to Theodore Driser. N. Y.: Random House, 1971. 171 p.
- Warren R. P. Primary and Secondary Themes in «The Rime of the Ancient Mariner». A Handbook. Ed. R. A. Gettman. San Francisco, 1961.
- White Ellington. Robertr Penn Warren // South: Modern Southern Literature in Its Cultural Setting. Ed. L. Rubin and R. Jacobs. Westpart, Connecticut, 1961.
- Wellek Rene. Concepts of Criticism. New Hawen: Yale Univ. Press, 1963. 305 p.
- Wolfe Thomas. Three Decades of Criticism. Ed L. A. Field. N. Y.-L.: N. Y. Univ. Press, 1968.
- Wolfe Thomas. The Face of a Nation. Ed. J. H. Wheelock. N. Y.: Charles Scribner’s Sons, 1939. 322 p.
- Zender K. F. The Crossing of the Ways: W. Faulkner, the South and the Modern World. New Brunswick, 1989. 193 p.