Этноконфессиональные меньшинства в политическом процессе на Ближнем и Среднем Востоке: особенности институционального развития и диаспоральной деятельности
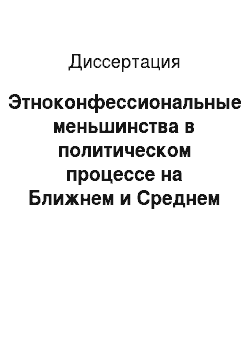
Одним из таких механизмов является стабильная этностатусная система, складывавшаяся в течение нескольких столетий и предусматривающая наличие у каждой этнической и конфессиональной группы собственной функциональной ниши в обществе, во многом предопределяющей род деятельности ее представителей, уровень их материального достатка, социальный статус, определяемый присутствием в престижных сферах… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Этничекие меньшинства и этноконфессии в странах
- Ближнего и Среднего Востока в новейшее время
- 1. 1. Этнические меньшинства в Иране и Турции
- 1. 2. Основные тенденции развития этнических меньшинств и 37 этноконфессий в арабских странах
- Глава 2. Диаспоры ближневосточного региона: структура, основные 46 направления развития, место в системе межэтнических коммуникаций
- 2. 1. Особенности развития черкесской диаспоры
- 2. 2. Специфика функционирования общинных институтов 49 армянской диаспоры в странах региона (Сирия, Ливан)
- Глава 3. Основные направления политики в отношении этнических 61 меньшинств и диаспор: опыт Ирана и Турции
- 3. 1. Механизмы регулирования проблемы этнических меньшинств 63 и диаспор в Иране
- 3. 2. 0. сновные этапы развития этнополитической системы и национальной политики Турции
- 3. 1. Механизмы регулирования проблемы этнических меньшинств 63 и диаспор в Иране
- 4. 1. Политика в отношении этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор: опыт арабских стран
- 4. 2. 1. Толитика израильского руководства в отношении этнических 102 меньшинств и диаспор
Этноконфессиональные меньшинства в политическом процессе на Ближнем и Среднем Востоке: особенности институционального развития и диаспоральной деятельности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Ближневосточный регион* традиционно является объектом исследования для отечественных и зарубежных ученых, обозревателей, -политических деятелей и военных аналитиков, изучающих широкий спектр вопросов. Скрупулезному анализу подвергаются тенденции экономического развития стран региона (1), особенности политических институтов ближневосточных государств (2), основные направления их. внешней политики (3), специфика социального и культурного развития (4). При этом необходимо отметить, что из перечня довольно полно изученных проблем регионального развития выпадают проблемы этнополитического характера, которые, по нашему мнению, изучены пока еще недостаточно, несмотря на их несомненную актуальность. Представленная «диссертационная работа является попыткой в какой-то степени восполнить указанный пробел, и посвящена исследованию воздействия этнических меньшинств (5), этноконфессий (6) и диаспор (7) на этнополитические процессы в регионе Ближнего Востока и, соответственно, на стабильность политического пространства ближневосточных государств.
Актуальность заявленной темы диссертационного исследования заключается, по нашему мнению, в следующем: 1) Этническая пестрота населения ближневосточного региона предопределяет высокий уровень воздействия этнического фактора (8) на политические процессы в государствах, расположенных на интересующей нас территории, а также на отношения между региональными центрами силы. Исходя из этого, представляется важным исследовать систему межэтнических коммуникаций в регионе для лучшего понимания механизмов взаимодействия основных участников регионального политического процесса, как на внутригосударственном, так и на международно-политическом уровне.
Исследование сложной этностатусной системы ближневосточного региона, формировавшейся в течение длительного времени, реконструкция механизмов ее функционирования, будет способствовать лучшему * пониманию проблем межэтнического взаимодействия в других полиэтничных регионах планеты, а также позволит усовершенствовать наши представления о характере взаимодействия доминирующих этнических групп с этническими меньшинствами, этноконфессиями и диаспорами на региональном и государственном уровне.
Анализ основных направлений развития отношений этнических меньшинств, диаспор, этноконфессий и доминирующих этнических общностей позволит сформировать более полное представление о конфликтном потенциале региона и создать условия для формулирования боле адекватных прогнозных оценок, касающихся развития политической ситуации, как на уровне отдельных государств ближневосточного региона, так и на уровне Ближнего Востока в целом.
Учитывая тот факт, что многие этнические меньшинства и диаспоры Ближнего Востока генетически связаны с народами, населяющими регионы Большого Кавказа и Центральной Азии, исследование заявленной темы представляется важным с точки зрения понимания этнополитических процессов на постсоветском пространстве, тем боле, что целый ряд этнических групп Северного Кавказа (адыгские этносы) всячески демонстрируют свою близость с соплеменниками, проживающими в Турции и арабских странах. Таким образом, исследование этнополитических процессов на Ближнем Востоке может иметь и практическое значение для оценки угроз стабильности южных регионов Российской Федерации (9).
В условиях, когда Турция стремится стать членом Евросоюза, фактор этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор, проживающих на территории этой страны, может оказать определенное воздействие и на политические процессы в современной Европе, тем более, что страны, входящие в ЕС в качестве одного из основных условий приема Турции в это интеграционное объединение выдвигают соблюдение турецким руководством прав нетурецкого населения страны как в политической, так и в культурно-языковой сфере (10). .
Объектом данного исследования является специфика развития этнополитических процессов в ближневосточном регионе в условиях этнической пестроты его населения.
Предметом исследования являются механизмы и тенденции развития этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор, существующих на Ближнем Востоке.
Целью представленной диссертационной работы является изучение комплекса институциональных и этнокультурных особенностей функционирования этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор Ближнего Востока, системы их отношений с доминирующими этническими группами, а также специфических возможностей их воздействия на политическую ситуацию как в регионе в целом, так и в отдельных ближневосточных странах.
Для достижения поставленной цели представляется необходимым решить следующие задачи;
1) провести сравнительное исследование тенденций развития. этнических меньшинств и этноконфессий в Иране, Турции, наиболее влиятельных арабских странах и Государстве Израиль, выделив при этом общие и специфические черты, характерные как для положения названных общностей в указанных странах, так и в регионе в целом;
2) проанализировать особенности развития наиболее значительных региональных диаспоральных сообществ, деятельность которых не ограничена границами отдельных государств и оказывает воздействие на состояние политических процессов на всем Ближнем Востоке;
3) реконструировать основные механизмы воздействия этнических меньшинств, этноконфессий и. диаспор (как официальные, так и неофициальные) на политическую ситуацию в регионе;
4) определить, какую .роль в жизни ближневосточных этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор играют традиционные социальные институты и традиционная • культура и каким образом традиции воздействуют на их положение в региональной системе межэтнических коммуникацийt.
5) исследовать этностатусную систему, сложившуюся в отдельных странах интересующего нас региона, определить, каким образом оказывает воздействие на ситуацию в выбранных странах- ¦
6) проанализировать основные направления и механизмы. взаимодействия между доминирующими в регионе этническими группами, а также органами государственной власти отдельных стран и общностями, относящимися к категории этнических меньшинств, диаспор и этноконфессий.
Хронологические рамки исследования. В представленной диссертации исследуется период 1923 — 2005 гг. Нижняя хронологическая граница обусловлена тем, что именно в это время на Ближнем Востоке коренным образом трансформируется этностатусная система, что явилось результатом распада Османской империи, эволюции внутриивнешнеполитического курса Ирана, роста национального самосознания меньшинств, проживающих в регионе, активизации еврейской иммиграции в Палестину, а также результатом стремления ведущих стран мира (Великобритании, Франции, СССР и США) к использованию этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор для закрепления своего влияния в этом стратегически важном регионе. Верхняя хронологическая граница обосновывается тем, что в 2005 г. были сформированы предпосылки для дальнейшей трансформации этностатусной системы в границах Ближнего Востока в результате того, что в этом году впервые в истории президентом * арабской страны (Ирак) стал курд. Такая ситуация может повлечь за собой интенсификацию политической активности региональных этнических меньшинств и диаспор, направленной на увеличение объема своих прав в • политической и культурно-языковой сферах.
Дополнительным фактором, предопределяющим верхнюю хронологическую границу нашего исследования, является то, что в этот период Турция предприняла очередную попытку интегрироваться в рамки Европейского Союза. Этот шаг турецкого руководства также способен активизировать политические усилия соответствующих этнических меньшинств и диаспор и, таким образом, внести свой вклад в эрозию сложившейся на Ближнем Востоке этностатусной системы.
Эмпирическая база исследования состоит из нескольких «комплексов материалов. В первый комплекс входит широкий спектр документов, имеющих отношение к внешнеполитическим ведомствам ведущих стран мира, стремившихся в разное время воздействовать на этнические меньшинства и диаспоры для укрепления своего влияния в стратегически важных пунктах Ближнего Востока (11). Данный комплекс включает в себя документы планирования, материалы переписки, аналитические разработки и другие документы, позволяющие составить представление об этнополитической ситуации в ближневосточном регионе в рамках интересующего нас периода, о позиции ведущих этнических меньшинств и диаспор в отношении тех или иных изменений в странах региона, о том, какую роль они играли во внутренней и внешней политике региональных и внерегиональных акторов. Кроме того, документы, входящие в этот комплекс, позволяют судить о статусе той или иной этнической группы в региональной системе межэтнических коммуникаций.
Во второй комплекс входят документы международных межправительственных и неправительственных организаций, проводящих, или проводивших в прошлом свою политику в интересующей нас части земного шара. Значительный интерес представляют документы Лиги Наций, содержание которых позволяет судить о численности тех или иных меньшинств и диаспор в сложный период их развития в 1920;х — 1930;х гг., степени сохранности у них традиционных социальных институтов и традиционной культуры, а также об уровне их интегрированное&tradeв, ближневосточный социум (12). Немаловажную роль играют документы других международных организаций, в том числе Евросоюза (13). Их • ценность заключается в том, что они позволяют установить уровень сохранности языка и идентичности интересующих нас общностей, а в сравнении с документами Лиги Наций позволяют определить место ассимиляционных тенденций, как в системе региональных межэтнических коммуникаций, так и в национальной политике отдельных ближневосточных стран.
К третьему комплексу можно отнести документы, имеющие отношение собственно к общинным структурам интересующих нас этнических групп. Они не так многочисленны, как документы, входящие в ' два предыдущих комплекса, однако несут в себе уникальную информацию об экономических, социокультурных, политических, религиозных, языковых и других проблемах, стоящих перед диаспорами, меньшинствами и этноконфессиями Ближнего Востока, условиях, необходимых для их «национального возрождения», направлениях сотрудничества между различными общинными институтами отдельных меньшинств и диаспор, механизмах защиты их прав на государственном уровне, усилиях по сохранению родного языка и исторической памяти и т. д. Незаменимую помощь этот комплекс материалов может оказать в процессе изучения институциональных особенностей развития этнических меньшинств и диаспоральных сообществ Ближнего Востока, т.к. содержит достаточно много данных о структурах, способных активизировать в том числе и политическое участие представителей той или иной общности в делах того или иного государства (14).
Четвертый комплекс состоит из разнообразных материалов статистического характера, главная ценность которых заключается в том,. что они позволяют проследить динамику численности диаспоральных сообществ, этнических меньшинств и этноконфессий в различных странах Ближнего Востока, определить соотношение удельного веса титульных и нетитульных этнических групп в населении той или иной страны, а также выделить тенденции к культурной и/или языковой ассимиляции той или иной общности независимо от того, является ли эта ассимиляция результатом соответствующей политики правительства, или же следствием так сказать естественной утраты оригинальных этнокультурных характеристик (15).
В качестве пятого комплекса можно рассматривать достаточно широкий набор мемуаров, написанных дипломатами, учеными, военными, политическими деятелями, путешественниками и разведчиками, связавшими свою жизнь и профессиональную деятельность с интересующим нас регионом. Ценность данного комплекса заключается в том, что он содержит интересные экспертные оценки, позволяющие лучше разобраться в специфических механизмах развития межэтнических контактов на Ближнем Востоке, мотивах, ставших основой для того или иного политического шага, предпринятого руководством отдельныхближневосточных государств в отношении тех или иных этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор. Кроме того, мемуарная литература, несмотря на все ее недостатки, позволяет составить достаточно четкое представление о том, какую роль играл и играет внешний фактор в развитии системы региональных межэтнических коммуникаций (16).
• К шестому комплексу можно отнести материалы, имеющие отношение к политике стран ближневосточного региона в отношении этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор. Такие материалы «необходимы для реконструкции этностатусной системы, характерной для отдельных региональных государств, оценки потенциальных возможностей дестабилизации их политического пространства в случае. активизации того или иного этнического сообщества, а также для лучшего понимания тенденций развития отношений между доминирующими в той или ной стране этническими группами и этническими меньшинствами. Необходимо также отметить, что данный комплекс материалов позволяет выделить механизм принятия политических решений руководством ближневосточных государств по национальным проблемам и лучше понять конкретные действия правительственных кругов в той или иной ситуации, связанной с осложнением национального вопроса (17).
Степень научной разработанности темы. Проблематика, связанная • с этнополитическими процессами в регионе Ближнего и Среднего Востока, в принципе, достаточно неплохо исследована, как в отечественной, так и в зарубежной политической науке. Вместе с тем, нельзя не отметить, что этнополитический процесс в регионе практически никогда не рассматривался в целом. В большинстве случаев специалисты исследовали отдельные его аспекты. Так, например, известный российский ученый О. И. Жигалина в своих работах акцентирует внимание на вопросах, преимущественно связанных с этническими меньшинствами, причем, преимущественно в Иране (18). О. Бадерхан или В. Дятлов ' уделяют внимание исключительно проблемам диаспор, действующих на Ближнем и Среднем Востоке, отдавая предпочтение арабским странам (19).
Целый ряд российских специалистов исследуют проблемы этноконфессиональных меньшинств в Египте и Ираке. Однако, в отечественной науке практически нет обобщающих работ, целью которых являлся бы анализ комплексного воздействия этноконфессиональных меньшинств и диаспор, во-первых, на системы межэтнических коммуникаций, а во-вторых, на внешнюю и внутреннюю политику ближневосточных государств. Одной из немногочисленных (по имеющимся у нас данным) работ, до некоторой степени обобщающих результаты отдельных этнополитических исследований по Востоку,. является выпущенная в 1999 году работа «Социальный облик Востока» под редакцией Р. Г. Ланда. В специальной главе «Этносоциальная стратификация» говорится о целом комплексе проблем, определяемых взаимодействием широкого спектра этнополитических сил (20). Однако, этносоциальные и этнополитические проблемы изложены в этой работе применительно ко всему Востоку, включая бывшие советские республики в Центральной Азии и страны Дальнего Востока, что, по нашему мнению, затрудняет понимание специфических механизмов развития этнополитических процессов именно на Ближнем и Среднем Востоке.
Другой работой, несомненно, заслуживающей самого пристального внимания, является коллективное исследование «Этносы и конфессии на Востоке: взаимодействие и конфликт» (А.В. Торкунов (пред. редк.), А. Д. Воскресенский (отв. ред.), В. Я. Белокреницкий, М. А. Сапронова (сост., н. ред.)), проведенное сотрудниками МГИМО (У) МИД РФ (21). Авторы данного исследования проанализировали широкий спектр проблем, имеющих отношение к межэтническим и межконфессиональным коммуникациям в интересующем нас регионе. Так, глубокому анализу подверглись этноконфессиональные отношения в Сирии, Ливане, Ираке, -Иране, Израиле. Авторы на основании широкого круга источников выделили основные механизмы функционирования системы этноконфессиональных отношений на Ближнем и Среднем Востоке, продемонстрировали те условия, в которых конструктивное взаимодействие этносов и конфессий перерастает в конфликт.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в комплексном рассмотрении широкого спектра этнополитических и этнокультурных проблем ближневосточного региона с учетом воздействия на них всех основных этнополитических сил, конкурирующих с ' доминирующими этносами, а именно — этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор. В отечественной науке, как уже указывалось выше, присутствуют работы, рассматривающие положение указанных • сообществ в региональной системе координат отдельно друг от друга, что в значительной степени обедняет представление о сложных и многомерных региональных процессах, в которых принимают участие многочисленные негосударственные акторы, в том числе и перечисленные сообщества.
Новым для отечественной науки является рассмотрение потенциальных возможностей этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор в сфере обращения за поддержкой к международным институтам. При рассмотрении подобных обращений, отечественные специалисты • акцентируют внимание главным образом на курдском и армянском опыте апелляции к европейским институтам, направленном на недопущение Турции в ЕС, смягчение позиций ее руководства в отношении курдской проблемы, а также на признание им факта геноцида армян. В данной работе мы затрагиваем малоизученные вопросы, связанные с апелляциями к европейским структурам таких этнических меньшинств, как, например лазы, обладающих серьезным уровне сплоченности и развитым этническим сознанием, способным стимулировать их политическую активность. Новым представляется также рассмотрение механизмов воздействия региональных диаспор на политические процессы на постсоветском пространстве и возможностей их использования внешнеполитическим ведомствами государств Ближнего Востока.
Методологическая основа исследования. В представленной работе применяется комплексный подход к этнополитическому анализу, учитывающий как примордиалистские характеристики интересующих нас общностей, так и роль их элит в формировании этнической или этноконфессиональной солидарности, выделение которой характерно для конструктивизма. Конструктивистский подход представляется продуктивным с точки зрения анализа государственной политики в отношении этнических меньшинств, диаспор и этноконфессий региона, а также при рассмотрении вопросов сохранения и/или эволюции * идентичности тех или иных общностей в условиях интенсивных изменений ближневосточного социума под воздействием, в том числе, процессов глобализации. Примордиалистский подход эффективен, как представляется, при исследовании традиционных социальных институтов и отношений, традиционных особенностей поведения, проблем воздействия ценностей на политическое участие ближневосточных этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор. Таким образом, автор допускает синтез нескольких подходов при анализе различных сторон исследуемого предмета (22).
При исследовании институционального аспекта развития ближневосточных этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор автор применял широкую трактовку термина «институт», в духе неоинституционального подхода, который рассматривает их не только в качестве статичных социальных структур, но и в качестве совокупности формальных и неформальных норм, действующих в обществе, что позволяет учитывать всю сложность протекающих процессов, в том числе исторические условия складывания политической культуры в странах Ближнего и Среднего Востока и неформальные факторы, воздействующие на поведение тех или иных неформальных сообществ.
Для достижения основной цели данного исследования и решения промежуточных задач в диссертации были использованы общенаучные методы, а также специальные исторические и политологические методы.. Общенаучные методы (анализ, синтез) применялись автором в каждой главе работы. Элементы системного подхода применялись при анализе специфики институционального развития интересующих нас сообществ и при исследовании государственных институтов, регулирующих положение этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор в том или ином государстве исследуемого региона. Сравнительный анализ был применен в.
главах 1 и 3 при рассмотрении тенденций развития названных общностей-в той или иной части региона, а также при изучении подходов к проблеме этнических меньшинств, демонстрируемых ближневосточными государствами. Специальные исторические методы (хронологический, синхронный и диахронный) также' применялись практически в каждой главе представленного диссертационного исследования.
При исследовании институциональных особенностей развития перечисленных сообществ, а также при исследовании процесса принятия решений по этнополитическим и этнокультурным вопросам руководством ряда ближневосточных государств автором был использован децизионный метод, распространенный в политологии и позволяющий проанализировать процесс принятия политических решений, а также выделить отдельные звенья этого процесса и определить роль каждого из них. Другим политологическим методом, использованным в работе, является «case-studies», позволяющий делать обобщающие выводы, ' которые можно распространить на весь регион Ближнего Востока, на основе отдельных примеров.
При написании работы автор использовал целый ряд специфических терминов. Одним из них является термин «этническое меньшинство», под которым подразумевается часть этноса, отделенная от основного этнического массива, проживающая в численно превосходящем иноэтничном окружении. Другой термин — «этноконфессия» — обозначает общность, выделяющую себя из общего этнокультурного контекста на основе исповедования оригинальной эндемичной религии. С точки зрения языка, антропологического облика и культурных традиций этноконфессии практически не отличаются от окружающих их общностей. Третий термин — «титульный этнос», под которым мы понимаем народ, давший наименование тому или иному национально-государственному образованию. Внимания заслуживает также термин «диаспора», до сих пор пе имеющий однозначного определения. Нам представляется оптимальным использование определения феномена диаспоры, разработанного известным российским ученым З. И. Левиным, который понимает под диаспорой этнос или часть этноса, проживающая вне своей исторической родины или территории обитания этнического массива, сохраняющая представление об единстве происхождения и не желающая потерять стабильные групповые характеристики заметно отличающие ее • от остального населения страны, вынужденно подчиняясь, принятому в ней порядку и сотрудничая с государством. Диаспора — это социальный институт, который находит свое выражение в форме общины". Данное определение, по нашему мнению, отличается своей функциональностью и позволяет рассмотреть механизмы функционирования диаспоры. Здесь же необходимо отметить, что основным отличием диаспор от других этнополитических категорий является то, что они образуются в результате миграций и представляют собой, скажем так, «инородное тело» в социальном организме принимающего общества. Отдельного упоминания * заслуживает термин «статус этноса», под которым понимается положение этноса в социальной иерархии того или иного государства.
Положения, выносимые на защиту:
1. Доказанный автором тезис о том, что в регионе Ближнего и Среднего Востока сложились эффективные механизмы регулирования межэтнических коммуникаций, позволяющие сохранить стабильность ближневосточных обществ в условиях мозаичности этноконфессионального состава населения.
2. Сформулированное автором положение о том, что региональная система межэтнических коммуникаций обладает возможностями саморегулирования, что дает возможность в значительной степени нивелировать воздействие на региональные политические процессы внерегиональных акторов — стран Запада, международных организаций и транснациональных корпораций.
3. Авторское утверждение о позитивном воздействии традиционных социальных институтов и отношений на стабильность межэтнических коммуникаций в регионе.
4. Доказанное автором положение о том, что государства Ближнего и Среднего Востока проводят гибкую политику в отношении этноконфессиональных меньшинств и диаспор, определяемую локальными ¦ особенностями той или иной страны, связанными с этноконфессиональным составом населения, долей титульных этносов и меньшинств и т. д. Как правило, эта политика основана на исторических традициях межэтнического взаимодействия, сложившихся, в том числе, в период существования на Ближнем и Среднем Востоке подмандатных территорий и протекторатов, на которых руководство великих держав проводило политику поддержки некоторых меньшинств и диаспоральных сообществ, которые рассматривались в качестве социальной базы их влияния (копты в Египте, марониты в Ливане и т. д.).
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его результаты вполне могут быть использованы для дальнейшего изучения этнополитической и этнокультурной ситуации в регионе Ближнего Востока, а также в примыкающих к нему регионах (Большой Кавказ, Центральная Азия). Научные выводы и фактический материал диссертации могут найти применение при написании учебных пособий, а также при разработке и чтении учебных курсов этнологического профиля, таких как «Этнология изучаемого региона», «Этнополитология». Кроме того, выводы, полученные в результате исследования, могут быть использованы в практической деятельности органов государственной власти РФ, имеющих отношение к обеспечению интересов России в регионе Ближнего Востока. Представляется также, что материалы диссертационного исследования могут стать основой для прогнозных оценок ситуации в южных регионах нашей страны.
Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена и одобрена на заседании кафедры международных отношений факультета международных отношений Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Теоретические положения, предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, излагались автором на конференциях в Москве, Нижнем Новгороде (2005;2009 гг.) и • отражены в шести публикациях общим объёмом 5,5 п.л.
Структура диссертации обусловлена целью, задачами и предметом исследования. В первой главе автор рассматривает тенденции институционального и социокультурного развития наиболее значительных этнических меньшинств и этноконфессий, компактно проживающих в Турции, Исламской Республике Иран, а также в ряде арабских государств ближневосточного региона, таких, как Египет, Ливан и Сирия. Выбор страновых примеров обусловлен тем, что именно в политическом пространстве этих государств проблемы этноконфессиональных ' меньшинств выступают более выпукло в силу активности соответствующих этнополитических сил, их периодической апелляции к мировому сообществу и попыткам заинтересованных стран использовать их для укрепления своих позиций в стратегически важном регионе Ближнего и Среднего Востока. Такой подход позволяет выделить общие закономерности развития данных сообществ, обусловленные историческими традициями и конфессиональной ситуацией, сложившейся в регионе и характеризующейся с одной стороны фактическим господством ислама, а с другой — серьезными противоречиями, существующими в отношениях между приверженцами различных направлений этой религии. Вторая глава посвящена исследованию наиболее заметных диаспоральных сообществ, оказывающих значительное влияние на систему межэтнических коммуникаций в регионе и стабильность некоторых ближневосточных государств. Рассмотрение ближневосточных диаспор как таковых, а не как части этнополитического ландшафта отдельных стран региона представляется оправданным в силу того, что их отдельные общины активно развивают трансграничное сотрудничество в экономической, культурной, а иногда и в политической сферах, до некоторой степени определяя направления развития этнополитических процессов сразу в нескольких региональных государствах и обладая потенциальными возможностями в сфере. воздействия на их внешнюю политику. Что же касается третьей главы, то она посвящена исследованию различных подходов, демонстрируемых властными структурами Турции и Ирана в отношении этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор в условиях активного вмешательства в дела региона внерегиональных акторов и потенциальных возможностей апелляции последних к международным институтам в случае нарушения их прав. В четвёртой главе рассматриваются этностатусные системы арабских стран и Государства Израиль, а также механизмы их формирования под воздействием, как национальной ¦ политики государств, так и исторических традиций межэтнического взаимодействия. Кроме того, в данной главе определяются границы влияния государственных институтов стран Ближнего Востока на социально-политическую активность этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор, функционирующих на их территориях.
Заключение
.
Подводя итоги нашей работы, можно констатировать, что спектр этнополитических сил, действующих на региональной арене Ближнего и Среднего Востока, исключительно широк и способен оказывать серьезное воздействие как на международно-политический климат в регионе, так и на стабильность политического пространства отдельных государств, расположенных на его территории.
Мозаичность этноконфессионального состава населения ближневосточных государств предопределила многие тенденции их развития, значительная часть которых сохранилась до сих пор, пережив крушение Османской империи, исламскую революцию в Иране и целый ряд других социально-политических катаклизмов. Обилие этнических меньшинств, диаспор, этноконфессий, разделенных этносов ' и субъэтнических образований, а также весьма слабая консолидированность доминирующих этнических групп привели к тому, что ближневосточный социальный организм выработал целый ряд специфических защитных механизмов, позволяющих в условиях поликультурности избегать масштабных конфликтов, способных привести к «войне всех против всех» и поставить под угрозу сам факт существования ближневосточных государств. Эти механизмы, являющиеся, судя по всему, одной из уникальных характеристик ближневосточного социума, или, если угодно, ближневосточной цивилизации, стабилизируют общество и создают условия для минимизации возможностей перехода существующих «противоречий и латентных этноконфессиональных конфликтов в актуализированную форму.
Одним из таких механизмов является стабильная этностатусная система, складывавшаяся в течение нескольких столетий и предусматривающая наличие у каждой этнической и конфессиональной группы собственной функциональной ниши в обществе, во многом предопределяющей род деятельности ее представителей, уровень их материального достатка, социальный статус, определяемый присутствием в престижных сферах занятости, представительством в органах власти и, т.д. С одной стороны, такое положение вещей затрудняет, казалось бы, социальную мобильность, однако, с другой — стабилизирует положение этнической общности, гарантирует минимум условий, необходимых для сохранения и воспроизводства этнической культуры и идентичности. Стабилизирующий момент заключается в том, что занимая в обществе стабильную пишу, на которую, как правило, никто не покушается, этническая группа не ощущает угрозы своему существованию, что уменьшает количество предпосылок для возникновения ситуации этнической напряженности. Отметим также, что так или иначе, занимаемая • этносом пиша не является абсолютной, непреодолимой преградой на пути человека к карьерному росту и материальному благополучию, тем более, что любая этническая группа стратифицирована и ее представители занимают, как правило, несколько ниш, в том числе престижных. Примером, подтверждающим справедливость данного тезиса, могут служить копты, являющиеся этническим меньшинством в Египте и занимающие при этом передовые позиции, как в целом ряде отраслей экономики страны, так и в политической сфере.
Таким образом, форма межэтнических коммуникаций в отношениях ' между этническими меньшинствами, диаспорами, этноконфессиями и доминирующими этническими общностями в странах Ближнего и Среднего Востока может быть охарактеризована как сегрегация, связанная с проводимой участниками этнополитического процесса осторожной политики отдельного развития, которая на государственном (национальном) уровне переходит в симбиозную интеграцию, в рамках которой и речи нет о равноправии, но существует определенная взаимозависимость, минимизирующая возможность открытых и широкомасштабных конфликтов.
Необходимо также отметить, что такая система межэтнических коммуникаций обладает возможностями саморегулирования, что • достигается, с нашей точки зрения, за счет ее относительной простотывыход того или иного этноса за рамки своей функциональной ниши и повышение его статуса вызывают бурную ответную реакцию со стороны других участников этнополитического процесса, направленную на подавление активности «возмутителей спокойствия» и восстановление баланса сил в этнополитической сфере. Такое развитие событий помогает, помимо всего прочего, в значительной степени нивелировать воздействие на региональные политические процессы внергиональных акторов — стран Запада, международных организаций и транснациональных корпораций, • стремящихся укрепить свое влияние на Ближнем и Среднем Востоке посредством поддержки каких-либо низкостатусных этнических групп, становящихся социальной опорой проникновения их влияния в регион и получающих взамен возможность повышения тем или иным путем своего статуса в этносоциальной стратификации, примером чего опять-таки могут читаться копты.
Другим механизмом сохранения этнополитической стабильности государств Ближнего и Среднего Востока являются традиционные социальные институты и отношения, культивируемые недоминирующими этносами и призванные обеспечивать их культурную самобытность. Этот механизм важен, как минимум, по четырем причинам.
Во-первых, наличие традиционных институтов, основанных на клановой и/или локальной идентичности, позволяет обеспечивать нормальное функционирование режима этнической сегрегации, в силу того, что традиционная элита, являющаяся по сути своей «негибкой», не стремящейся к нововведениям, способна в случае необходимости успешно противостоять ассимиляторским устремлениям того или иного государства, что достигается подчас за счет прямого отказа от выполнения тех или иных предписаний центра.
Во-вторых, успешное функционирование традиционных институтов способствует стабилизации функциональных ниш недоминирующих этносов, т.к. традиционные структуры консервативны и способствуют, как кажется, воспроизводству профессиональных навыков представителей тех или иных этносов, а также формированию этнической элиты черпающей ресурсы из той или иной сферы деятельности.
В-третьих, традиционные социальные институты и отношения обеспечивают условия для функционирования специфических защитных механизмов культуры этноса, способствующих преодолению самых разных угроз идентичности его представителей и самому его существованию в качестве самостоятельного социального организма.
В-четвертых, факт наличия у нетитутльных (недоминирующих) этносов системы традиционных социальных институтов предопределяет невозможность их долговременной консолидации в противостоянии с центром, т.к. укрепление традиционных институтов приводит к возрастанию амбиций традиционных лидеров и усилению противоречий между ними, выгодных центральной власти.
В качестве третьего механизма выступают, как представляется, исламские религиозные нормы, в рамках которых разработан (по крайней мере в элементарных формах) алгоритм взаимодействия меньшинств и доминирующего населения. Указанный алгоритм предусматривает наличие в мусульманском обществе нескольких статусных групп, выделяемых по конфессиональному признаку и обладающих определенным набором прав, объем которых меньше, чем у доминирующих этноконфессиональных групп, однако не настолько, чтобы стимулировать ситуацию межэтнической напряженности и актуализацию латентных этнических конфликтов. Данный алгоритм является очень важным, в силу того, что во многих случаях этнические меньшинства и диаспоры исповедуют религию, отличную от доминирующих этнических групп. В качестве одной из статусных групп можно выделить так называемых «зимми» («покровительствуемые») — иноконфессиональные монотеистические группы жившие под властью исламского государства (халифата) и обладавшие достаточно большим объемом прав.
Помимо этого, формированию атмосферы межэтнической и межконфессиональной кооперации способствовали собственно коранические положения, в соответствии с которыми полиэтничность и поликонфессиональность рассматривались в качестве дарованных богом и, соответственно, воспринимались как благо для человечества. Конечно же, значение этого механизма не стоит переоценивать, а тем более абсолютизировать, однако, коранические положения, получившие силу традиции, неплохо дополняют два предыдущих механизма стабилизации межэтнических отношений и способствует налаживанию межэтнической кооперации. Естественно, статус «зимми», сформировавшийся в период существования халифата, в настоящее время утратил актуальность, однако, судя по всему, он стал частью исторических традиций межэтнического взаимодействия и в этом качестве продолжает оказывать воздействие на этнополитическую ситуацию в регионе.
Четвертым стабилизирующим механизмом является гибкая политика руководства отдельных стран, определяемая локальными особенностями той или иной страны, связанными с этноконфессиональным составом населения, долей титульных этносов и меньшинств и т. д. Как правило, эта политика основана на исторических традициях межэтнического взаимодействия, сложившихся, в том числе, в период существования на Ближнем и Среднем Востоке подмандатных территорий и протекторатов, на которых руководство великих держав проводило политику поддержки некоторых меньшинств и диаспоральных сообществ, которые рассматривались в качестве социальной базы их влияния (копты в Египте, марониты в Ливане и т. д.).
Гибкость политики в отношении этноконфессиональных групп и диаспор руководства таких стран, как Сирия и Ливан, обусловлена мозаичностью этноконфессионального состава населения, делающей такую гибкость необходимым условием для выживания государства. Гибкость египетской политики в отношении этнических меньшинств, обусловлена их высоким статусом в этносоциальной стратификации государства, обусловленным, в свою очередь, тем, что представители меньшинств занимают «командные высоты» в сегментах национальной экономики, связанных с высокими технологиями, а также в банковской сфере.
Проявления гибкости в отношении этнических меньшинств и диаспор характерно и для государств, отличающихся, на первый взгляд, исключительной суровостью при решении задач этнополитического характера (Турция, Иран). Отрицание полиэтничности и ассимиляторская политика в этих странах не носят абсолютного характера. Несмотря на, суровые преследования сепаратистов и репрессии в отношении политически активной части национальной интеллигенции, запрет на, использование национальных языков в СМИ и образовательных учреждениях, лидеры указанных государств, в общем-то, не покушаются на сложившуюся этностатусную систему, стремясь законсервировать ее и не дать меньшинствам возможности повысить свой статус. Гибкость в данном случае может проявляться в деконсолидации националистических группировок меньшинств и формированию условий, препятствующих созданию указанными этнополитическими силами эффективных политических инструментов, предназначенных для отстаивания своих интересов.
Перечисленные механизмы, создающие фундамент этнополитических систем стран Ближнего и Среднего Востока, придают региональным этнополитическим процессам специфический колорит, который воспринимается значительной частью ученых, аналитиков и обозревателей как показатель стагнации ближневосточного социума, отсутствия в его недрах какого-либо развития. Отчасти это действительно так, постольку, поскольку полиэтничность региона диктует необходимость создания сложных механизмов поддержания этнополитической стабильности, громоздких систем сдерживания амбиций отдельных. этнических меньшинств и диаспоральных сообществ. Эти системы сдержек, легитимность которых освящена традицией, являются негибкими по своей сути, а внесение в них каких-либо корректив, с одной стороны болезненно воспринимается участниками региональных этнополитических процессов, а с другой — может серьезно дестабилизировать межэтнические коммуникации, алгоритм которых формировался в течение многих лет и доказал свою способность стабилизировать отношения между доминирующими этническими группами, этническими меньшинствами и диаспорами. Таким образом, мы рискнем предположить, что этническая. пестрота Ближнего и Среднего Востока является одной из основ той самой «традиционности», которая является одной из ключевых характеристик региона и под которой понимается в основном «неспособность» региональных политических процессов развиваться по западному образцу, а также неспособность ближневосточного социума к созданию институтов гражданского общества.
Итак, традиционность ближневосточного социума необходима для его стабилизации. Она выступает в качестве средства профилактики актуализации латентных этнических конфликтов и средства снижения • уровня этнического риска. В то же самое время, нельзя не отметить, что в целом ряде случаев традиционность межэтнических коммуникаций в интересующем нас регионе эволюционирует в архаичность, выражающуюся в безоговорочном доминировании на той или иной территории традиционных социальных институтов и отношений, функционирование которых замедляет развитие современных политических институтов, которые могли бы способствовать повышению эффективности политической борьбы этнических меньшинств, этноконфессий и диаспор, что, с одной стороны, стабилизирует общество, а с другой, как будет показано ниже, способствует затягиванию конфликтных ситуаций, и созданию условий для внезапной актуализации застарелых противоречий.
Архаичность может конструироваться, чем достаточно активно пользуются лидеры ближневосточных государств, стремящиеся к минимизации возможностей этнических элит. Представляется, что приверженность ближневосточного социума традициям в сфере межэтнического взаимодействия оказывает двоякое воздействие на состояние межэтнических коммуникаций и региональную. этнополитическую стабильность — с одной стороны такая приверженность стабилизирует общество, а с другой, образно говоря, закладывает мину замедленного действия, создает условия, консервирующие многочисленные конфликтные ситуации, формирующие очаги потенциальных этнических конфликтов, актуализация которых может быть вызвана широким спектром причин.
Кроме того, многомерность региональной этнополитической системы Ближнего и Среднего Востока формирует условия для создания очагов контролируемой нестабильности, для так называемого «этнополитического менеджмента», связанного с использованием этнического фактора внерегиональными государствами, международными организациями и транснациональными корпорациями для продвижения и закрепления своего влияния в рассматриваемом регионе.
Выше уже говорилось о том, что действующие в регионе механизмы сдерживания межэтнических конфликтов обеспечивают устойчивость ближневосточных обществ даже в условиях вмешательства в развивающиеся в его недрах процессы внерегиональных сил. Однако эта t устойчивость должна быть признана весьма и весьма относительной, т.к. * сложность региональных этностатусных систем и многомерность межэтнических коммуникаций стабилизируя общество, в то же самое время парадоксальным образом формируют возможность его дестабилизации в силу того, что указанная дестабилизация может, по нашему мнению, стать результатом даже минимальных изменений в устоявшихся межэтнических отношениях, смещением практически любого из элементов этностатусных систем, которое может повлечь за собой если не катастрофу, то, по крайней мере, заметное обострение отношений между теми или иными этнополшическими силами. Причем, как. показывает исторический опыт, вмешательство внерегиональных сил и вызванная им деформация региональных систем межэтнических коммуникаций на Ближнем и Среднем Востоке способствуют не только нарушению политического пространства отдельных государств, но и изменению конфигурации государственных границ, смене правящих режимов и радикальной ломке этностатусных позиций, которые способны оказать серьезное воздействие на международно-политическую ситуацию.
Список литературы
- Меморандум по курдскому вопросу в контексте иракского кризиса Председателя Национального конгресса Курдистана (НКК) Исмета Шерифа Ванли от 3 марта 2003 г.
- Программа Народного Конгресса Курдистана. Глава, III, пункт Г. 2004.
- Генис В. Красная Персия. Большевики в Гиляне 1920 -1921. Документальная хроника. М.: МНПИ, 2000.
- Сборник договоров России с другими государствами. 1856−1917. М.: Госиздат, 1952.
- Постановление Правительства Российской Федерации № 421 от 5 мая 1993 г. 7. ' Фейсал Коч / Шаг к победе. 06.03.2003.8. ИА «Росбалт». 25.03.2004.
- Московский комсомолец. 08.07.2005.
- Колобов О.А., Корнилов А. А., Рыхтик М. И., Цхай И. В. ¦ Проблемы войны и мира в XX веке. Нижегородская серия документов по истории международных отношений. Хрестоматия. Т. 1. Нижний Новгород: Издательство Нижегородского университета, 1996.
- Туркманчайсчкий мирный договор между Россией и Ираном. 10 февраля 1828 г.// Россия и ее «колонии». Сборник документов. М.: Изд-во «Даръ».
- Постановления Правительства Российской Федерации № 30 от 6 апреля 1995 г.
- Постановление Правительства Российской Федерации № 1386 от 23 ноября 1996 г. 14. ABC, 22.11.1998.
- British documents on Ottoman Armenians. L., 1932.
- Абалкин JI. Поиски путей в меняющемся мире. М., 1992.1996.
- Агаев C.JI. Иран между прошлым и будущим. М., 1987.
- Агаев C.JI. Советское ирановедение 20-х годов. М., 1977.
- Алексеенков-Березкин П. Туркмено-курдское восстание. Таш., 1935.
- Арабаджян З.А. Иран. Власть, реформы, революции (XIX — XX вв.). М., 1991.
- Арслан. Новая Турция. М., 1922.
- Аршаруни А., Габидуллин X. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. М., 1931.
- Ахмедов В.М. Сирия на рубеже столетий. Власть и политика. М., 2003.
- Аширов Н. Ислам и нация. М., 1975.
- Бадерхан Ф. Северокавказская диаспора в Турции, Сирии ' и Иордании (вторая половина XIX первая половина XX вв.). — М.: Институт Востоковедения РАН, 2001.
- Балашов Ю.А., Балуев Д. Г., Иванов О. П., Колобов А. О., Колобов О. А., Лебедева М. М., Рыхтик М. И., Хохлышева О. О. НАТО и Россия в глобальном гражданском обществе. М. — Н. Новгород, 2005.
- Балашов Ю. А. Камраков А.А., Рыжов И. В. Роль этнических меньшинств, этноконфессий, диаспор и разделенных народов в политическом процессе государств Ближнего и Среднего Востока. Под ред. О. А. Колобова. Нижний Новгород — Арзамас: Изд-во АГПИ, 2007.
- Барсегов Ю. Г. Геноцид армян — преступление по международному праву. М.: «21 век — Согласие», 2000.
- Бартольд В.В. Мусульманский мир. Пг., 1922.1996.
- Агаев C. J1. Иран между прошлым и будущим. М., 1987.
- Агаев C.JI. Советское ирановедение 20-х годов. М., 1977.
- Алексеенков-Березкин П. Туркмено-курдское восстание. Таш., 1935.
- Арабаджян З.А. Иран. Власть, реформы, революции (XIX — XX вв.). М., 1991.
- Арслан. Новая Турция. М., 1922.
- Аршаруни А., Габидуллин X. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. М., 1931.
- Ахмедов В.М. Сирия на рубеже столетий. Власть и политика. М., 2003.
- Аширов Н. Ислам и нация. М., 1975.
- Бадерхан Ф. Северокавказская диаспора в Турции, Сирии и Иордании (вторая половина XIX первая половина XX вв.). — М.: Институт Востоковедения РАН, 2001.
- Балашов Ю.А., Балуев Д. Г., Иванов О. П., Колобов А. О., Колобов О. А., Лебедева М. М., Рыхтик М. И., Хохлышева О. О. НАТО и Россия в глобальном гражданском обществе. М. — Н. Новгород, 2005.
- Балашов Ю.А., Камраков А. А., Рыжов И. В. Роль этнических меньшинств, этноконфессий, диаспор и разделенных народов в политическом процессе государств Ближнего и Среднего Востока. Под ред. О. А. Колобова. Нижний Новгород — Арзамас: Изд-во АГПИ, 2007.
- Барсегов Ю. Г. Геноцид армян преступление по международному праву. — М.: «21 век — Согласие», 2000.
- Бартольд В.В. Мусульманский мир. Пг., 1922.
- Блиев М. М. Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношений. М.: Изд-во «Европа», 2006.
- Борьян Б.А. Армения, международная дипломатия и СССР. Часть 1. М. — Л.: Госиздат, 1928.
- Бугай Н.Ф., Гонов A.M. Северный Кавказ. Новые ориентиры национальной политики (90-е годы XX века). М.: «Новый Хронограф», 2004.
- Васильева Е.И. Юго-Восточный Курдистан в XIV -начале XIX века. М., 1991.
- Васильчевский О.Л. Курды Северо-Западного Ирана. -Тб., 1944.
- Величко В.Л. Кавказ: русское дело и межплеменные вопросы. М., 2003.
- Вертяев К.В. Курдский вопрос в политике Турции (конец XX начало XXI века). — М., 2007.
- Гаглойти Ю.С. Проблемы этнической истории южных осетин. Цхинвал, 1996.
- Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. М., 2001.
- Ганковский Ю.В. Национальный вопрос и национальные движения в Пакистане. М., 1967.
- Гаспарян С. Диаспора сегодня.- Ереван, 1998.
- Гасратян М.А. К положению курдов в современной Турции//Национальный вопрос в странах Востока. М.: «Наука», 1982.
- Гасратян М.А. Курдская проблема в Турции. М., 2001.
- Глуходед B.C. Проблемы экономического развития Ирана. -М., 1968.
- Гумилев Л.Н. Этносфера. История людей и история природы. М.: «Экопрос», 1993.
- Гурко-Кряжин В. А. Ближний Восток и державы. М., 1925.
- Давыдов А.Д. Сельская община и патронимия в странах Востока. М., 1979.
- Даллакян К'.',' История армянского Спюрка.- Ереван: Ереванский Университет им. Грача Ачаряна, 1998.
- Джаббаров Т. Северо-Западная пограничная провинция Пакистана. М., 1977.
- Джалиле Д. Курды Османской империи в первой половине XIX века. М.: Наука, 1973.
- Догузов В.П. Из истории борьбы трудящихся Юго-Осетии за Советскую власть. Цхинвали, 1957.
- Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном, Иране. М., 1985.
- Дунаева Е.В. Иранский Курдистан в 60-е 70-е гг. XX века. -М., 1990.
- Ерохин A.M. Этнополитические аспекты трансформации российского общества. М., 2003.
- Жигалина О.И. Национальное движение курдов в Иране (1918−1947 гг.).-М., 1988.
- Загорнова Е.В. Курды в пламени войны. М.: «Грифон», 2005.
- Зарубежный Восток. Религиозные традиции и современность. М., 1983.
- Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1994.
- Зорин В.Ю., Рудаков А. В. Межнациональные и межконфессиональные отношения в Российской Федерации:проблемы раннего предупреждения и профилактики негативных явлений. Нижний Новгород, 2008.
- Иванов М.С. Племена Фарса. М., 1961.
- Исаев Л.А. Особенности социально-экономического и политического развития-Турецкого Курдистана в 70-е — 80-е гг. М., 1988.
- Кляшторина В.Б. Иран 60-х 80-х гг.: от культурного плюрализма к исламизации культурных ценностей. — М., 1990.
- Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм. М. — СПб, 2004.
- Колобов О.А. Международные отношения. Избранные труды. Нижний Новгород: «Нижполиграф», 1998.
- Кочиева И., Маргиев А. Грузия: этнические чистки в отношении осетин. М.: «Европа», 2005.
- Лазарев М.С. Империализм и курдский вопрос (1917−1923).-М.: Наука, 1989.
- Ландбасо Ангуло А., Коновалов А. Терроризм и этнополитические конфликты. Кн.2. Терроризм сегодня. М.: ОГНИ, 2001.
- Левин З.И. Менталитет диаспоры. М., 2001.
- Логашова Б.Р. Туркмены Ирана. М., 1976.
- Мамедов Ш. Мировоззрение М. Ф. Ахундова. М.: «Прогресс», 1962.• 87. Мамедова Н. М. Городское предпринимательство в Иране.-М., 1988.
- Матвеев И.А. Национальная и общеарабская политики Сирии на Ближнем Востоке. М., 2004.
- Ментешашвили A.M. Курды: очерки общественно-. экономических отношений, культуры и быта. М.: «Наука»,-.1984.
- Милюков П.Н. Национальный вопрос (происхождение национальности и национальные вопросы в России). М., 2005.
- Минорский В.Ф. Курды. Заметки и впечатления. Пг., 1915.
- Минорский В.Ф. Объезд оккупированных Турцией персидских округов русским и великобританским представителями гг. Минорским и Шипле. СПб, 1911.
- Минорский В.Ф. Турецко-персидская граница. М., МИВ, 1915. Вып. 2.
- Мирский Г. И. Берберы Северной Африки. М., 2003.
- Мирский Г. И. На развалинах империи. М.: ИМЭМО РАН, 2000.
- Мнацаканян М.О. Культуры. Этносы. Нации. Размышления об истоках и природе национальной общности. М.: Изд-во МГИМО (У) МИД РФ, 2005.
- Москаленко В.Н. Межнациональные противоречия в Пакистане. М., 1980.
- Никитин В. Курды. М.: «Прогресс», 1964.
- Орлов В.В. Философия пограничных проблем. Пермь, 1968.
- Пайчадзе Г. Г. Георгиевский трактат. Тбилиси, 1983.
- Половинкина Т. Черкесия боль моя. — Майкоп, 2001.
- Примаков Е.М. Ближний Восток на сцене и за кулисами. М, 2006.
- Рафили М. Ахундов. М., 1959-
- Рашид Р.С. Современная этноконфессиональная ситуация у курдов. JL, 1988.
- Сайван А.Ф. Политика Великобритании в Курдистане (1918−1926). Л., 1991.
- Санакоев И.Б. Истоки и факторы эволюции грузино-осетинского конфликта. Владикавказ, 2004.
- Смирнов А.Н. Этнополитические процессы на Северном Кавказе: особенности и основные тенденции. М., 2001.
- Смирнов Н.А. 11олитика России на Кавказе в XVI—XIX вв.. -М., 1958.
- Спенсер Э. Путешествие в Черкессию. Майкоп, 1994.
- Старчепков Г. И. Население Турецкой Республики. М., 1990.
- Таннер С. Афганистан: история войн от Александра Македонского до падения «Талибана». М.: «ЭКСМО», 2004.
- Таяри М.А. Ирано-турецкие военные конфликты и курды в первой четверти XIX века. Тбилиси, 1986.
- Темирханов Л. Восточные пуштуны в новое время —. М.: Наука, 1984.
- Тихонов Ю. Афганская война Сталина. М., 2008.
- Тишков В.А. Разделенные народы. О том, как не следует решать национальный вопрос в России.
- Толмачева Е.Г. Копты. Египет без фараонов. М., 2003.
- Ушаков А. Феномен Ататюрка. Турецкий правитель, творец и диктатор. М., 2002.
- Хавжоко IIL М. Герои и императоры в черкесской истории. Нальчик, 1994.
- Халфин Н.А. Борьба за Курдистан (Курдский вопрос в международных отношениях в XIX веке). М., 1963.
- Ханин В. «Русские» и власть в современном Израиле. Становление общины выходцев из СССР/СНГ и ее рольв политической структуре страны на рубеже XX и XXI веков.. Научное издание. М.: ИИИБВ, 2003.
- Ханыков.Н. Заметки по этнографии Персии. М., 1977.
- Хегатуров К. Собрание сочинений в пяти томах. М., 1959.
- Худаведян А. Культурно-исторические связи Советской Армении. Ереван, 1977.
- Цуциев А. Осетино-ингушский конфликт. М., 1995.
- Чиркин С.В. Двадцать лет службы на Востоке. Записки царского дипломата. М.: «Русский путь», 2006.
- Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие. А. В. Торкунов (пред. редк.), А. Д. Воскресенский (отв. ред.), В. Я. Белокреницкий, М. А. Сапронова (сост., н. ред.). М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2005.
- Abdul Kaum Khan. North-West Frontier Province Legislature and Freedom Struggle 1932−1947. New Delhi, 1976.
- Barton W. Indian’s North-West frontier. L., 1939.
- Binnendik H. A Strategic Assessment for the 21 Century. -N.Y., 1989.
- Bullhatcher A. The Pathans. L., 1964.
- Edmonds C. J. Kurds, Turks and Arabs. L., 1957.
- Elliot J. The Frontier 1839−1947. L., 1968.
- Fatemi N.S. Diplomatic History of Persia 1917−1923. Anglo-Russian Power Politics in Iran. N.Y., 1952.
- Gavan S. Kurdistan: Divided nation of the Middle East. L., 1958.
- Ghareeb E. The Kurdish Question in Iraq. N.Y., 1981.
- Jansson E. India, Pakistan and Pakhtunistan. Uppsala, 1981. v
- Kurdistan in the time of Saddam Hussein. Wash., 1991.
- Lenczowski G. Iran under Pahlavis. Calif., 1990.
- Minorities at Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts. Wash. D.C., 2003.
- People without a country: Kurds and Kurdistan. L., 1978.
- Portillo Valdis J.M. Ethnicity, Nation and State. University of Nevada, 2003.
- Rittenberg S. Ethnicity, Nationalism and the Pakhthan. -Carolina, 1988.
- Safrastian A. Kurds and Kurdistan. L., 1948.
- Spain J. North-West Frontier. L., 1967.
- Swinson A. North-West Frontier. L., 1967.1.l Статьи
- Абилов К.А. Международно-правовое положение палестинцев// Ближний Восток и современность. Сборник статей (выпуск двадцатый). М.: ИИИБВ, 2003.
- Александрова С. А. Религия и демократия в Израиле//Востоковедный сборник (выпуск пятый). М.: ИИИБВ, 2003.
- Алиев С.М. Иран 60−70-х годов: социальные и политические ' сдвиги.//Иран: социальное и экономическое развитие. М., 1980.
- Алиев С.М. К национальному вопросу в современном Иране//Краткие сообщения Института народов Азии АН СССР. М., 1964.
- Аух Е-М. Между приспособлением и самоутверждением. Ранний этап поисков национальной идентичности в среде мусульманской интеллигенции и возникновение нового общества на юго-восточном Кавказе//Азербайджан и Россия: общества и государства. М., 2001.
- Ашири Ш. Ч. Реакция на Западе и в России на обострение курдского вопроса в Ираке// Южный Курдистан сегодня. М., 1997.
- Багиров А.Г. Отношение Сирии к событиям в Южном Курдистане в 90-е годы// Южный Курдистан сегодня. М., 1997.
- Балашов Ю.А. Конфессиональный фактор в формировании этнической идентичности// Ученые записки Волго-Вятского отделения Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры. Вып. 16. Нижний Новгород: ННГУ, 2005.
- Балашов Ю.А. Курдская проблема во внешней и внутренней политике Турции// Актуальные проблемы изучения современной Турции. • Материалы научной конференции. Нижний Новгород: ННГУ, 2007.
- Балашов Ю.А. Политика Коминтерна на Ближнем Востоке.// Международные отношения в 21 веке. Новые действующие лица, институты, процессы. Н. Новгород, 2001.
- Балашов Ю.А. Разделенные народы на постсоветском пространстве//Вестник ННГУ им. Н. И. Лобачевского. № 4, 2007.
- Балашов Ю.А. Урегулирование проблемы разделенных народов: опыт стран Европы и Ближнего Востока// Фаизхановские чтения. Материалы третьей ежегодной научно-практической конференции. Нижний Новгород: Изд-во НИМ «Махинур», 2006.
- Балашов Ю.А. Этнический фактор в современных международных отношениях: взгляд американских специалистов//
- Актуальные проблемы американистики. Материалы X международного * научного семинара «Россия, НАТО и США в антитеррористической коалиции». Нижний Новгород: ИСИ ННГУ, 2004.
- Белков П.Л. О методе построения теории этноса.// Этносы и этнические процессы. М., 1993.
- Блиев М.М. Осетино-грузинский конфликт. Его социальные истоки/Юсетия, Кавказ: история и современность. Владикавказ, 1999.
- Бромлей Ю.Л. Опыт типологизации этнических общностей.//Советская этнография. 1972, № 56.
- Брук С. И. Этнический состав и размещение населения в странах Передней Азии.//Переднеазиатский этнографический сборник. М.-Л., I, 1959.
- Ванли И.Ш. Курдский национальный вопрос (историко-культурный аспект и перспективы)//Современное состояние курдской проблемы. М., 1995.
- Васильева Е.И. Мусульманский мистицизм и племенная солидарность как факторы традиционной идеологии в курдском обществе/ЛГрадиционные мировоззрения у народов Передней Азии. М.,, 1992.
- Вельяминов Г. Признание «непризнанных» и международное право//Россия в глобальной полититке. Том 5. № 1. Январь-февраль 2007 г.
- Викторов С.В. Система комплектования и прохождения службы в вооруженных силах Израиля/Юфицерский корпус ближневосточных государств (сборник статей). М.: ИИИБВ, 2004.
- Востров Л. Племена Ирана и племенная политика иранского правительства.// Материалы по национально-колониальным проблемам. М., 1936, № 34.
- Гасратян М.А. Турецкие курды поднимаются на борьбу//Современный Курдистан. М., 1995.
- Гасратян М.А. Турецкое законодательство и курды//Курдистан на перекрестках истории и политики. М., 1994.
- Габдуллин И.Р. К вопросу об этносословной эволюции тюркского населения Уфимского уезда в XVII—XIX вв..// Единство. татарской нации. Сб. статей. Казань, 2002.
- Давыдов А. Во власти «пуритан ислама»//Азия и Африка сегодня. № 8, 1998.
- Дятлов В.И. Политический активизм армянской диаспоры в арабском мире//Национализм и фундаментализм на Ближнем Востоке. -М., 1999.
- Жехак JL, Грюнберг A.JI. Некоторые черты традиционного мировоззрения пуштунов // Традиционное мировоззрение у народов Передней Азии. Сб. статей. М.: Наука, 1992.
- Жигалина О.И. Иран и кризис в Южном Курдистане// Южный Курдистан сегодня. М., 1997.
- Жигалина О.И. Ислам у курдов Западной Азии//Мусульманские страны у границ СНГ. М.: ИВ РАН, 2002.
- Жигалина О.И. Проблемы этнокультурной конфликтности в современном Иране//Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие. М., 2005.
- Жигалина О.И. Роль ислама в идеологии курдского национального движения в Иране.//Ислам в странах Ближнего и Среднего ' Востока. М., 1982.
- Загорнова Е.В. Друзы на Ближнем Востоке: к проблеме межконфессиональных этнополитических взаимоотношений//Ближний
- Восток и современность. Сборник статей (выпуск двадцатый). М.: ИИИБВ, 2003.
- Загорнова Е.В. Курдский вопрос в Сирии//Востоковедный сборник. Вып. 6. М., 2004.
- Загорнова Е.В. Развитие СМИ на территории этнографического Курдистана//Аналитические записки. Проблемы Ближнего Востока. М.,. 2004.
- Загорнова Е.В. Этапы становления и взаимоотношения наиболее влиятельных курдских партий//Ближний Восток и современность. Вып. 26. М., 2005.
- Заяц Д.В. Курдистан: черная дыра или потенциальное национальное государство? // «География». № 6, 1999.
- Киш Я. Вопрос о меньшинствах в новом мировом порядке// Центрально-Европейский ежегодник. Вып. 1. Международные отношения и безопасность. М.: «Логос», 2003.
- Колобов О.А. Обновляющаяся Россия и судьбы разделенных народов в многополярном мире//Судьбы разделенных народов: история и современность. Нижний Новгород, 1996.
- Колпаков А.П. Курдское племя джел ал авенд.//Советская этнография. 1951, № 3.
- Колюбакин Б. Состав населения Персии по племенам и провинциям. Очерк.// Сборник материалов по Азии. 1884. Вып. 11.
- Коргун В. Афганистан. Есть ли выход из тупика?//Азия и Африка сегодня. № 6, 1992.
- Крюков М.В. Этничность, безэтничность, этническая непрерывность.// Расы и народы. Вып. 19. М., 1989.
- Кузнецов С.Н. Афганская политика президента Пакистана П. Мушаррафа после 11 сентября//Ближний Восток и современность. Вып. 26. М., 2005.
- Лазарев М.С. Курдский национализм в XX веке (особенности развития и современное состояние)// Мусульманские страны у границ СНГ. М.: ИВ РАН, Изд-во «Крафт+», 2002.
- Лазарев М.С. Новые тенденции в курдском национализме//Национализм и фундаментализм на Ближнем Востоке. М., 1999.
- Лазарев М.С. Южный Курдистан в истории и политике//Южный Курдистан сегодня. М., 1997.
- Лазарева О.А. Национальные и религиозные обычаи нардов Афганистана и военная история страны//Востоковедный сборник. Вып. 6. -М., 2004.
- Лебедев К.А. Азиатская диаспора в странах Океании и Юго- ' Восточной Азии//Национальный вопрос в странах Востока. М.: «Наука», 1982.
- Листопадова А.В. Арабское меньшинство в израильском обществе: прошлое и настоящее//Востоковедный сборник (выпуск четвертый). М.: ИИИБВ, 2002.
- Листопадова А.В. В поисках путей решения проблемы палестинских беженцев//Востоковедпый сборник (выпуск пятый). М.: ИИИБВ, 2003.
- Логашова Б.Р. Национальный вопрос в Иране // Расы и народы. Вып. 19.-М., 1989.
- Маркедонов С. Грузинский парадокс российской политики// Россия в глобальной политике. Т.5. № 2. Март-апрель 2007.
- Маркедонов С. Земля и воля//Россия в глобальной политике. Т.4. № 4, январь-февраль 2006.
- Марков Г. Е. Этнос, этнические процессы и проблема образа жизни // Расы и народы. Вып. 19. М., 1989.
- Масюкова И. Социальный портрет современного Израиля//Мировая экономика и международные отношения. № 1. М., 2005.
- Мгои Ш. Южный Курдистан. Тернистый путь к свободе//Азия и Африка сегодня. № 8, 1998.
- Мгои Ш. Х. Политические изменения в Южном Курдистане после конфликта в Персидском заливе//Южный Курдистан сегодня. М., 1997.
- Мухаммед Шариф А. Политика Ирана в Южном Курдистане// Южный Курдистан сегодня. М., 1997.
- Общие принципы демократического урегулирования курдского вопроса в Турции. Иране, Ираке и Сирии // Дружба. № 25. 2003.
- Осипов С. Трагедия народа. К 80-летию геноцида ассирийцев//Азия и Африка сегодня. № 12, 1998.
- Поляков К.И., Хасянов А. Ж. Проблема стабильности. Сирии в XXI веке. Ближний Восток и современность. Сборник статей (выпуск девятый). М., 2000.
- Поцхверия Б.М. Умеренные исламисты в Турции: курдская и. кипрская проблемы// Ислам и общественное развитие в начале 21 века. -М., 2005.
- Прагматизм по-арабски//Полигический журнал. 20 марта 2006. № 10(105).
- Празаускас А.А. Актуальные проблемы этнонационального развития стран Востока.//Национальный вопрос в освободившихся странах Востока. М., 1986.
- Рашид Р.С. «Люди истины» (Ахл-и хакк) // Традиционные мировоззрения у народов Передней Азии. М., 1992.
- Рязанцев B.C. Миграция ногайцев в зеркале этнополитической ситуации в Ставрополье // Этнические проблемы современности. Вып. 5.
- Проблемы гармонизации межэтнических отношений в регионе. -Ставрополь, 1999.
- Сабри Р. Позиция арабских стран в связи с ситуацией в ' Южном Курдистане// Южный Курдистан сегодня. М., 1997.
- Сайд Ш. Х. Успехи и проблемы правительства Иракского Курдистана//Южный Курдистан сегодня. М., 1997.
- Свентховский Т. Русское правление, модернизаторские элиты и становление национальной идентичности в Азербайджане//Азербайджан и Россия: общества и государства. М., 2001.
- Смирнов А.Н. Этничность и культурный плюрализм в контексте государственной политики//Полис. № 4, 2005.
- Тишков В. А. О феномене этничности//Этнографическое обозрение. 1997. № 3.
- Трубецкой В.В. Особенности национальной ситуации в Исламской Республике Иран//Национальный вопрос в странах Востока. -М.: «Наука», 1982.
- Трубецкой В.В. Переход к оседлости кочевников Ирана.// Краткие сообщения Института народов Азии. Вып. 73. М., 1963.
- Турция между Европой и Азией. Итоги европеизации на исходе XX века. Сб. статей. М., 2001.
- Умнов А. Талибы и террористы не одно и то же//МЭ и МО. № 3, 2002.
- Фурман Д. Армянское национальное движение. История и психология// Свободная мысль. № 16, 1992.
- Холодная В. Спасай «Кадиму!»//Политический журнал. 20, марта 2006. № 10 (105).
- Хоммадов Б. Национальное движение курдов Ширвана в 20-х годах XX века.// Известия АН Турк. ССР, Ин-т истории им. Ш. Батырова. Вып. 5. с Аш., 1975.
- Цуканов В.П. Территориальные сдвиги в обрабатывающей промышленности Ирана в период ломки колониальной структуры . народного хозяйства // Иран. Проблемы экономического и социального развития в 60−70 гг. М., 1980.
- Шахбазян Г. С. Межкурдский конфликт в Южном Курдистане// Южный Курдистан сегодня. М., 1997.
- Эволюция восточных обществ. Синтез традиционного и современного. Сб. статей. М., 1984.
- Экрем Е. Южный Курдистан и турецкий фактор/ЛОжный Курдистан сегодня. М., 1997.
- Эпштейн А., Меламедов Г. Двунациональное еврейское -государства и проблемы арабоязычного населения Израиля (к выводам Госкомиссии под председательством Теодора Ора)//Ближний Восток и современность. Сборник статей (выпуск двадцатый). М.: ИИИБВ, 2003.
- Южная Осетия: 10 лет республике. Сб. статей. Владикавказ, 2000.
- Adamson Fiona and Madeleine Demetriou. Remapping the Boundaries of «State» and «National Identity:» Incorporating Diasporas into IR Theorizing. // European Journal of International Relations. Vol. 13 (4), December 2007.
- Afgan Pak relations over Border Row//www.expressindia.come
- Afganistan Pakistan: Focus on Bilaterial Border D i spute//w ww. irinnews. org
- Amato A.D. Psychological constructs in Foreign Policy Prediction. 11 Journal of Conflict Resolution.
- Barth F. The Analysis of Culture in Complex Societies // Ethnos. 1989. Vol. 54.
- Beck L. Revolutionary Iran and its Tribal People \ Merip Reports. Wash., 1980. #87.
- Bedoyan H. The Social, Political and Religious Structure of Armenian Community in Lebanon \ The Armenian Review. 1979. #2.
- Behera A.D. Separatist Insurgencies in Pakistan//Strategic Analysis. Vol.XIX. #2. May 1996.
- Bruinessen M. van. Kurdish tribes and the state of Iran: The Case of Simko’s revolt.//The conflict of tribe and state in Iran and Afghanistan. L., 1983.
- Chin Hee-gwan. Divided by Fate: The Integration of Overseas Koreans in Japan//East Asian Review. Vol.13, #2. Summer 2001.
- Dadwal S.R. The Kurdish Problem: A Lesson for All // Strategic Analysis. Vol.XIX. #8. November 1996.
- Hassanpour Amir. Satellite Footprints as National Borders: MED-TV and the Extraterritoriality of State Sovereignty // Journal of Muslim Minority Affairs № 18, 1998.
- Hassanpour Amir. The language policy of Iran.//Kurdistan Report. Sweden, № 8, April, 1992.
- Lang D.M. The Armenians/Minority Right Group Report. 1978.32.
- Matinuddin K. Pakistan’s Policy towards Afganistan and Central Asia//Pakistan's Foreign Policy. Regional Perspective. Peshavar, 1999.
- Olson R. The Creation of a Kurdish State in I990's?//Journal of South Asian and Middle Eastern Studies. Vol. XV, № 4, Summer, 1992.
- Pattanaik S. Pakistan’s North-West Frontier: Under a New Name//Strategic Analysis. Vol.XXII. #5. August 1998.
- Readings in Pakistan Foreign Policy. 1971−1998. Karachi, 2001.
- Shahzad S.S. Pashtunistan Issue back to Haunt Paki stan//ww w. aitimes. com
- Somer M. Failures of the Discourse of Ethnicity: Turkey, Kurds, and the Emerging Iraq//Security Dialogue. Voi.36. #1. March 2005.
- Stansfield G. and L.Anderson. Les parametres changeants d’un Etat kurde: Entre Bruxelles, Ankara et Bagdad // «Etudes kurdes», No 8, September 2006.
- Stansfield G. and R. Lowe. The Kurdish Policy Imperative // Middle East Program of Washington Kurdish Institude, December 2007.
- Terzian A. D. Growth of the Armenian Community in Paris (1919 -1939)//T.A.R. 1974. -№ 3.
- The Armenian Review. 1974. — Vol. 27. — № 1.
- The Armenian Review. 1975. — Vol. 28. — № 4.
- The Cristian Science Monitor. 3.01.1980. #1.
- The Kurdish Diaspora. // Kurdorama, Institut kurde de Paris, h ttp:// www. in sti tutkurd e. о rg/en/kurdorama/
- Учебники и учебные пособия
- Алиев С.М. История Ирана. XX век. М.: ИВ РАН — Крафт +, 2004.
- Балашов Ю.А., Вагин М. В., Колобов О. А., Корнилов А. А. Международные отношения на Ближнем Востоке в XX веке. Учебное пособие/Под общ, ред. О. А. Колобова и К. С. Гаджиева. — Нижний Новгород, 2003.
- Блиев М.М., Базаров М. С. История Осетии. Владикавказ, 2000.
- Васильев Л.С. История Востока. М.: «Высшая школа», 1994.
- Васильчевский О.Л. Курды. Введение в этническую историю курдского народа. М.-Л., 1961.
- Диаспоры и разделенные народы на постсоветском пространстве. Под ред. К. С. Гаджиева и Э. Г. Соловьева. М.: ИМЭМО РАН, 2006.
- Иванов М.С. Очерк истории Ирана. М., 1952.
- Исламские народы и страны региона. М., 1994.
- Историческая динамика расовой и этнической дифференциации населения Азии. М., 1987.
- История Курдистана. М., 1999.
- Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов/Под общ. ред. М. В. Баглая. М.: «Норма», 2002.
- Курдское движение в новое и новейшее время. М., 1989.
- Межэтнические конфликты в странах зарубежного Востока. -М., 1991.
- Национальные проблемы современного Востока. М., 1977.
- Национальный вопрос в странах Востока. М., 1982.
- Очерки истории Грузии в восьми томах .Т.6. Тбилиси, 19 881 989.
- Реза Годе М. Иран в XX веке. Политическая история. М., 1994.
- Садохин А.П. Этнология. Учебное пособие. М., 2001.
- Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. Учебное пособие. СПб: Изд-во Михайлова В. А., 1999.
- Фарукшин М.Х. Сравнительный федерализм. Учебник по спецкурсу. Казань: Изд-во КГУ, 2003.
- V Диссертации и авторефераты диссертаций
- Ариф М. Этнография курдов Сулейманийской области (Ирак). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1976.
- Балашов Ю.А. Политика Коммунистического Интернационала на Ближнем Востоке (1920−1939 гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Н. Новгород, 2002.
- Биштван А. Международно-правовые аспекты права курдского народа на самоопределение. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Киев, 1989.
- Джанаев Х.Г. Социально-политические основы становления и развития Республики Алания в системе трансформационных координат ХХТ века. Автореферат на соискание ученой степени доктора политических наук. М., 2006.
- Камаль М. Национально-освободительное движение в Иракском Курдистане в 1918—1958 гг.. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1969.
- Наджарян Е.О. Армяно-арабские культурные связи в Сирии и Ливане (1945−1970 гг.). Автореферат на соискание ученой степени канд. ист. наук. Ереван, 1970.
- Тунян В.Г. Административная и экономическая политика самодержавья в Закавказье. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Тбилиси, 1990.
- Малый атлас мира. М.: Главное управление геодезии и картографии, 1985.
- Офицерский корпус ближневосточных государств, — М., 2004.