Сходства интеллигенции Китая и России
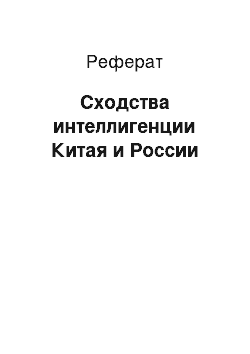
Китай же больше походит на «опустившегося старика», который «уже не верит и не мечтает о том, что и ему может улыбнуться когда-нибудь счастье» — образно оформляет эту же мысль Чжоу Цзожень в своем знаменитом докладе «Россия и Китай в литературе», прочитанном с трибуны Пекинского университета и опубликованном в журнале «Син циннянь» за январь 1921 г. Писатель Ван Тунчжао, окидывая взглядом прошлое… Читать ещё >
Сходства интеллигенции Китая и России (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Распространение русской литературы в Китае — феномен, заслуживающий особого внимания.
Как известно, отдельные произведения русских писателей начали проникать в Китай во второй половине 19 в., но подлинное знакомство с русской литературой открывается переводом «Капитанской дочки» А. С. Пушкина в 1903 г. и последовавшими за этими публикациями «Черного монаха» А. П. Чехова, отрывков из «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова, рассказов Л. Толстого, М. Горького, Л. Андреева и т. д. «Слабый ручеек» переводов (по выражению литературоведа Чень Цзяньхуа) неуклонно набирает силу и к 20-м годам прошлого века становится настоящим потоком: достаточно сказать, что по статистике переводы русской литературы, изданные отдельными книгами, составили 2/5 от общего числа всех переводных изданий.
И это не считая тех произведений, которые печатались на страницах многочисленных литературных журналов того времени.
Китайская интеллигенция с живым интересом читала и обсуждала произведения Пушкина, Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова, Горького. «Любовь к русской литературе стала стилем жизни рядового интеллигента, а изучение русской литературы вылилось в своего рода движение в среде революционной интеллигенции» — вспоминал известный писатель Мао Дунь в своей статье «Гоголь в Китае» [17].
Важно отметить, что в роли переводчиков русской литературы в 10−20-е гг. 20 в. выступают крупнейшие писатели и литераторы, чьи имена вошли в историю современной китайской литературы и определили пути ее развития на десятки лет вперед — это Лу Синь и его брат Чжоу Цзожень, Цюй Цюбо, Мао Дунь, Тянь Хань и многие другие.
Эта когорта «властителей дум» того времени не только переводит, издает, но и отдает много сил исследованию русской литературы, с огромным жаром и энтузиазмом пропагандируя ее в своих статьях и в выступлениях перед широкой аудиторией. «Как будто распахнулось окно, через которое взгляду открылись прекрасные зори, синие просторы неба, могучий прибой океана — все то, что и не снилось раньше, и не ожидавшие такой возможности люди бросились гурьбой к этому окну, чтобы увидеть впервые представшее перед ними изумительное зрелище» — так образно описывал знакомство с русской литературой известный литературовед Чжен Чженьдо в 1924 г.
Такой запал и пиетическое отношение к русской, а затем и советской литературе в среде китайской интеллигенции сохраняются надолго, проходя красной нитью через тяжелые для Китая 30-е и 40-е годы, через апогей китайско-советской дружбы в 50-е, чтобы (после поворота на 180 градусов в период «культурной революции») снова зажечь читательский интерес в 80-е гг., когда за 10 лет переводится около 10 тыс. произведений более чем 1 тыс. авторов (включая русских классиков и современных писателей) — гораздо больше, чем за все предшествующие периоды [37].
Хочется подчеркнуть, что новая волна увлечения современной русской литературой в 80-е гг. приходится на то время, когда официальные отношения между странами еще продолжают находиться в состоянии политической и идеологической конфронтации.
Этот факт сам по себе говорит о том, что было бы неправомерно объяснять особое отношение к русской литературе в Китае только политическими и идеологическими причинами, такими, например, как широкая пропаганда китайско-советской дружбы в 40−50-е гг., идеологическая политика КПК, или др. факторами официального характера.
Широкомасштабное распространение и глубинное влияние русской литературы в Китае можно рассматривать как специфическое социокультурное явление, обусловленное тем, что русская литература оказалась «в нужное время в нужном месте» [29].
«Нужным временем» стало начало 20 в. Это был переломный период для китайского традиционного общества, которое вынуждено было трансформироваться под давлением внутренних и внешних обстоятельств и переживало поэтому острый духовный кризис. В недрах закостенелой системы вызревали новые социокультурные институты (образовательные учреждения, газеты и печать нового типа и т. п.) и новые социальные группы, с ними связанные. Одним из важных изменений в структуре китайского общества было появление новой формации китайской интеллигенции, приходящей на смену прежней интеллигентной прослойке «ши», которая в течение двух тысяч лет являлась главным носителем и опорой традиционной конфуцианской культуры.
Отличительной особенностью «ши» являлась укорененность этой социальной группы в структуре управления государством через четко отработанную систему императорских экзаменов на замещение чиновничьих должностей, благодаря чему независимые в древности интеллектуалы и философы постепенно оказались в одной связке с бюрократической системой, их интересы и устремления были введены в русло государственных интересов.
Именно поэтому политическая карьера, имплицитно связанная с образовательным уровнем, как правило, вызывала гораздо больший интерес у традиционной интеллигенции, чем научная карьера, — указывает китайский исследователь Ван Цзяньчжао.
В этом плане традиционная китайская интеллигенция разительно отличалась от русской разночинной интеллигенции, сформировавшейся в рамках российского государства как особая маргинальная группа, находящаяся вне сословно-бюрократической системы и противопоставленная ей [36].
Сами условия существования и социальное положение русской интеллигенции толкали ее на путь неустанных духовных поисков и революционной борьбы, способствуя выработке идеалов демократизма, гуманизма и социального утопизма.
Разложение традиционной системы поставило новое поколение китайской интеллигенции в ситуацию, схожую с русской. Развал Цинской империи положил конец существованию «ши», эпигоны которых, цеплявшиеся за косные воззрения средневекового феодализма, становились посмешищем в глазах молодого поколения, стремившегося освободиться от пут традиционных представлений и идеологии [26].
Но при этом молодые люди, начавшие свое образование в традиционных классических школах типа «сышу» и продолжившие его в учебных заведениях нового, европейского типа, а затем и за границей (преимущественно в Японии), сами того не замечая, унаследовали сформированные веками некоторые черты менталитета «ши», в т. ч. ярко выраженное чувство общественного и патриотического долга, традиции интеграции личных интересов с интересами государства (родины, народа и т. п.), моралистическое отношение к реальности, а также к литературе и искусству и т. д.
Однако, если «ши» понимали общественный долг как служение императору и символизируемой им традиционной государственной системе, то теперь содержание этого понятия кардинальным образом трансформируется — в него вкладывается представление о необходимости поиска выхода из национального кризиса, осмысления происходящих перемен и места китайской нации в мире. «Что делать?», «Кто виноват?» — эти «проклятые вопросы» русских интеллигентов становятся актуальными и для китайцев [36].
Таким образом, можно говорить о том, что вектор духовных поисков русской и китайской интеллигенции в начале 20 в. совпал. Неудивительно, что именно в произведениях русской литературы китайцы, ищущие «свежие голоса в чужих странах» (по выражению Лу Синя), находят ответ на волнующие их вопросы.
Глядя сквозь призму литературы в сторону России, они видят до боли знакомую схожесть явлений. Го Можо в предисловии к «Нови» Тургенева с горячностью утверждает: «Если имена, фамилии и географические названия в этой книге заменить на китайские, если вместо сигар представить опиумные трубки, вместо водки — хуадяо, вместо игральных карт — мадзян, то разве не скажете вы, что русские чиновники точь-в-точь такие, как наши китайские, и что простые люди в России точь-в-точь такие же, как в Китае?"4.
Подобное сопоставление китайской и российской действительности через русскую литературу привлекает в этот период особое внимание, как исследователей, так и читателей. Чжен Чженьдо соединяет поколения «Отцов и детей» Тургенева с китайскими «отцами и детьми» 20-х гг. Тянь Хань, описывая развитие русской общественной мысли в 30−40-е гг. 19 в., проводит параллель с общественной обстановкой в Китае в преддверии «движения 4 мая» и прямо указывает, что его исследование должно послужить китайскому «культурному ренессансу».
Следует подчеркнуть, что такое восприятие с помощью уподобления, может быть, несколько примитивизировано, но, в любом случае, оно облегчает понимание другой страны и перекодировку языка ее культуры на язык своей национальной культуры [37].
Для Китая, только-только выходившего из состояния средневековой замкнутости, оторванности от внешнего мира это было в особенности важно. Уподобление помогало преодолевать отчуждение и рождало чувство близости, сопереживания. «Специфика Китая отличается от Западной Европы, но зато имеет много схожего с Россией» — таким был вывод.
Аналогии между Россией и Китаем, как правило, проводились не в пользу последнего. Лу Синь, яростно бичевавший пороки китайского общества, указывал: «Если мы поищем в собственной стране, то не найдем никаких иных персонажей, кроме все тех же мужчин и женщин, укрывшихся за пологом, либо торговцев и купцов; в России же есть иные люди». «Россия напоминает подростка, выросшего в бедности, — пережитые испытания воспитали в нем мужество, волю к борьбе и стремление к свету».
Китай же больше походит на «опустившегося старика», который «уже не верит и не мечтает о том, что и ему может улыбнуться когда-нибудь счастье» — образно оформляет эту же мысль Чжоу Цзожень в своем знаменитом докладе «Россия и Китай в литературе», прочитанном с трибуны Пекинского университета и опубликованном в журнале «Син циннянь» за январь 1921 г. Писатель Ван Тунчжао, окидывая взглядом прошлое и настоящее китайской литературы, не видит никого, кто мог бы встать на равных с русскими писателями: «Есть ли какой-нибудь китайский писатель, кто мог бы сравниться с Чеховым в описании средних классов? Или с Горьким в описании низших классов общества?» — задает он риторический вопрос.
Отрицание собственных традиций, определенный культурный нигилизм, свойственный поколению «4 мая», настоятельно требовали создания новых культурных авторитетов, почетное место в ряду которых заняла русская литература и те ценности, которые она несла с собой.
«На всех исторических переломах, когда совершается трансформация культуры и общества, неизбежно происходит модификация или преобразование имеющейся аксиологической системы, внедряются извне или создаются новые ценности, что приводит к реконструкции культурной системы и общественной структуры, продвигая людей к дальнейшей эмансипации» [23].
При этом на наш взгляд, легче всего внедряются те ценности и порожденные ими представления, которые имеют аналогии в воспринимающей культуре и, соответственно, в менталитете людей.
В трансформационный для Китая период русская литература стала важным проводником новых (или модифицированных) ценностей, соответствующих исторической эпохе.
Какие же ценности русской литературы оказались наиболее близкими сердцам китайских интеллигентов? Это, в первую очередь, ее гражданственность, дух служения Отчизне. Подчеркивалось, например, что русский реализм более прогрессивен, чем «французская натуральная школа», прежде всего, потому, что «русские писатели обладают ярко выраженным чувством социальной ответственности, их художественная и социальная совесть едины».
Еще в самом начале 20 в. Лу Синь, представляя китайским читателям поэзию Пушкина и Лермонтова, выражает надежду на то, что и в Китае появятся такие же духовные борцы — «их воля будет направлена на сопротивление и выразит себя в действиях», что они так же будут «непрерывно стремиться к истине и рваться вперед, не отступая от своего пути».
В этом свете примечательно, что одним из самых популярных произведений Пушкина становится не «Евгений Онегин», а «Письмо к Чаадаеву». «Под гнетом власти роковой нетерпеливою душой Отчизны внемлем призыванье» — Пушкин высказал именно то, что звучало в душе у молодого радикального поколения. В таком же романтически-приподнятом ключе пишет профессор Пекинского университета Ли Дачжао в статье «Русская литература и революция» (1918): «О, русская молодежь! Чем увенчаешь ты свою окровавленную бледную Музу! Чем отблагодаришь ты поэтов, пожертвовавших собой ради общества?».
Морализм, дидактичность русской литературы 19 в., встречающие критические замечания на Западе, на конфуцианском Востоке, всегда считавшем, что «литература должна нести в себе мораль», воспринимаются как совершенно естественное свойство, как одно из достоинств литературы. Более того, значение многих русских классиков оценивается именно под углом морализма.
Так, Мао Дунь подчеркивает, что произведения Л. Толстого ценны, прежде всего, тем, что несут в себе «квинт-эссенцию морали» и отмечает преимущества этической стороны этих произведений в сопоставлении с английской и французской литературой. Анализируя «Что делать?» Н. Чернышевского, Тянь Хань также делает упор на моральных проблемах, затронутых в романе [24].
Такой угол зрения исходил из моралистических традиций китайской литературы и общих воззрений на роль этики в переустройстве общества. «Этическое прозрение — это самое полное и конечное прозрение» — считал один из лидеров Движения за новую культуру проф. Чень Дусю.
«Движение 4-го мая» утверждало идеалы демократизма и гуманизма. Соответственно социальная направленность и гуманистическая тональность русской литературы виделись ее главными достоинствами. Именно под влиянием русской литературы в Китае были усвоены взгляды на то, что цель художественного творчества заключается в объяснении и критике жизни. По мнению китайских исследователей, эти взгляды способствовали выдвижению девиза «Искусство во имя человеческой жизни», написанного на знамени «Движения за новую литературу» в 20-е гг. 20 в.
«Инициаторы литературы «4 мая» постоянно критиковали китайскую традиционную литературу как «негуманистическую», прокладывая с помощью этой критики путь для «гуманистической литературы» с тем, чтобы читатели открывали через литературу «человека», «утоляли голод на человека».
Мао Дунь в статье «Эпохальное значение Чехова» пишет об этом так: «Меня, как и всех моих сверстников, разбудило движение „4 мая“. И я, да и, наверное, многие вместе со мной, выбрался из сонного мира эссе эпохи Вэй и Цзин, из стихов династий Ци и Лян и удивленно раскрыл глаза: передо мной возникла русская классическая литература 19 в., мучительно стремящаяся к постижению смысла человеческой жизни».
Китайские исследователи 20-х гг. постоянно подчеркивают, что важнейшей особенностью русской литературы является ее человечность. Искренность и гуманистический дух русской литературы открыли ей дорогу «в литературные сады, куда до нее еще никто не ступал» — писал Чжен Чженьдо.
«Независимо от того, занималась ли русская литература углубленным исследовательским поиском или решением проблем, впадала ли в мистику или декадентство, ее главным направлением всегда оставался девиз «Во имя жизни человеческой» — считал Лу Синь [13].
Понятие «человеческой литературы», возникшее в тот период, базировалось на развитии личностного начала в среде интеллигенции, увязывалось с ее стремлением вырваться из рамок традиционного социума, скованного конфуцианскими нормами отношений, и утвердить право на индивидуальность. «Дух индивидуализма сплетался в тугой узел с духом свободы».
Свободолюбие романтических произведений Пушкина и Лермонтова, неоромантизм молодого Горького оказались созвучными эпохе. Анализируя отличие творчества Горького от классического романтизма, известный критик Чжоу Ян подчеркивал, что в произведениях Горького звучит «призыв к свободе и пламенный протест против рабского состояния в реальной жизни». Во многих других произведениях русской литературы китайская молодежь также находила для себя образцы свободы духа и независимости личности, противостоящей косному обществу.
Таким образом, общие черты в менталитете интеллигенции двух стран становятся базой для восприятия идей, наработанных русской интеллигенцией в 19-м столетии и наиболее экспрессивно выраженных в русской литературе. С другой стороны, если общие черты культурного менталитета можно рассматривать как основу взаимодействия, то на примере восприятия русской литературы проявляется также сила притяжения противоположностей [30].
Русская литература открывала похожий и непохожий мир, мир дионисийской культуры, где шло столкновение свободно выражаемых страстей и чувств, также кипящих в душе у китайца, но силой традиций загнанных под прочную оболочку поведенческих норм и этических правил.
Искреннее, неприкрытое проявление чувств оставляло поэтому глубокое художественное впечатление: «Малая толика бед и мучений человеческих описывается столь обнаженно и неприкрыто, что вызывает максимум сочувствия, исторгая из глаз слезы неподдельного сострадания!».
Старейший китайский писатель Ба Цзинь признается, что, прочитав произведения русских писателей, он «начал понимать, как надо выражать свои чувства».
Известный драматург Цао Юй, вспоминая о том впечатлении, которое на него произвела пьеса «Три сестры» Чехова, пишет, что, несмотря на кажущуюся простоту драматической структуры и спокойное развитие сюжетной линии, сцены из этой пьесы все время вставали у него в уме: «Слезы туманили мне глаза (…) Я почти не дышал, словно завороженный скорбно-трагической атмосферой» пьесы [12].
Трагизм русской литературы, действительно, завораживает китайцев. Трагедийность виделась даже у такого писателя, как Тургенев — исследователи считали, что и любовь, и революция, и сама человеческая жизнь в произведениях Тургенева предстает как трагедия, что читатели видят «реальную обстановку целой эпохи» и ощущают «вечную человеческую скорбь» (Ху Юй. «Тургенев — фаталист»). «Высокую трагедийность» русской литературы подчеркивал и Чжоу Цзожень, считая, что она (трагедийность) вызвана бедами и страданиями русского народа, в то время как Тянь Хань, увлеченный теорией географического детерминизма, приписывал появление этого качества особенностям сурового климата и «мрачной природы».
Однако во всех случаях трагедийность воспринималась как качество сугубо положительное и крайне необходимое для новой китайской литературы. Страдания в жизни китайцев толкнули старую литературу или к уходу в развлекательность, или к «озлобленной ненависти», у русских же писателей страдания «не породили злобы, досадливой ненависти или желания склонить голову», их трагический протест был движим «любовью и сочувствием, а не личными обидами», считал Чжоу Цзожень.
И он же указывал, что увлечение развлекательностью говорит о «старении нации», это признак того, что нация «привыкает к страданиям». О «философии страдания» Достоевского писал и переводчик Гэн Цзичжи, подчеркивая, что в этой философии лежат истоки гуманизма писателя, доказавшего, что «страдания могут родить любовь и веру».
При этом подчеркивался позитивный характер русской трагедийности и ее необходимость в Китае. «Дух трагедии, страданий и мученичества (…) оказал в свое время великое влияние на русских, и он же крайне необходим для сегодняшнего китайского общества» — указывал Ван Тунчжао. Культурная ценность трагедии, воспринятая китайскими писателями через русскую литературу, окрасила в новую тональность их произведения.
Анализируя влияние русской литературы на китайскую, Чжен Чженьдо перечисляет следующие изменения, происшедшие в этой связи: во-первых, китайская литература обратилась к правдивости, которой ей раньше крайне недоставало; во-вторых, «наша бесчеловечная литература стала человечной; в-третьих, «наша безличностная, бесхарактерная литература изменилась в сторону изображения личности, приблизилась к человеческой жизни»; в-четвертых, произошла демократизация литературы и, наконец, в-пятых, «наша литература стала трагедийной» [32].
Этот анализ остается обоснованным и в наши дни. Хотелось бы только уточнить, что взаимодействие литератур совершается не от предмета к предмету, а опосредствованно — через человеческое восприятие, через культурный менталитет и систему ценностных ориентаций соответствующих культур.