Конституции мира — ценности цивилизации
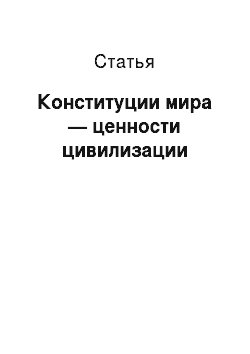
Как известно, в юридической науке двадцатого столетия и нового века интерес к исследованиям Конституции или конституций нисколько не ослабевает Хотя на первый взгляд давно уже складывается впечатление о том, что трудно придать научному поиску в этом отношении вектор новизны, и кажется, все более отчетливо звучит мнение об исчерпанности этой проблематики, однако почти метафизический и сакральный… Читать ещё >
Конституции мира — ценности цивилизации (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Конституции мира — ценности цивилизации Попов Е.А.
АННОТАЦИЯ Статья посвящена важной проблеме, на которую в последнее время все чаще обращают внимание не только правоведы, занимающиеся исследованиями в различных областях юридической науки, но и специалисты социально-гуманитарного знания — философы, историки, культурологи, социологи и другие. Речь идет о Конституции прежде всего как о предмете аксиологических суждений. Традиционный взгляд на Основной закон государства как на нормативно-правовой акт высшей юридической силы дополняется необходимостью рассматривать Конституцию как метатекст, открытый в культурное пространство, как ценность цивилизации, определяющую вектор развития государственности в тот или иной исторический период. Междисциплинарный характер интерпретации феномена Конституции позволяет прежде всего в методологическом плане увидеть своеобразные социокультурные «скрепы», которыми связываются общество, государство, культура и человек. Такой подход позволяет использовать полученные выводы для расширения эвристических границ в познании Конституции как ценности и духовно-консолидирующей силы. конституция государство закон КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ОБЩЕСТВО, ЦЕННОСТЬ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ, НОРМА, ГОСУДАРСТВО, ПРАВОСОЗНАНИЕ, МЕТАТЕКСТ, БЫТИЕ Национальный дух и философия государства всегда подчеркивались не только определенным набором ценностей и беспримерными дискуссиями о менталитете, но и конституциями как основными законами государства Именно в таком ключе —как основной закон — любая конституция обретает свой: путь в правовом пространстве, определяет судьбы стран и народов, устанавливает присущую им систему политических, экономических, социальных и прочих связей и отношений Вместе с тем любая конституция проживает жизнь со своим народом, отражает его чаяния и стремления, заблуждения и разочарования, формирует некий социально-исторический фон, становящийся основой проведения судьбоносных для государства преобразований и трансформаций Как правило, конституция страны — это совсем небольшая по объему книжица, но по своей онтологической силе и мощи правового воздействия способная противопоставить Злу Добро Конституции мира всегда считались оплотом цивилизации, они становились мерой государственности, определяющей жизнеспособность страны, ее авторитет на международной арене, ее характеристики и свойства, которые запечатлевают образ страны в сознании ее граждан, порождают ассоциативные ряды, никак не разделяющие человека и государство, а напротив, сближающие их, высвечивающие слитность человека с душой и духом своего народа За этими словами кроется, как нам кажется, вовсе не пафосная установка на, быть может, излишнее возвеличивание конституции, — в действительности только конституция способна примирить людей во враждующих лагерях и только конституция может открыть человеку самые важные истины государственной жизни — способно ли государство защитить человека и гарантировать ему свободу совести и убеждений, презумпцию невиновности, избирательное право, право на частную собственность и т. д.
Пожалуй, каждое государство берет свое начало именно с конституции Поэтому для любого государства конституция — это своего рода книга цивилизаций, далее мы будем писать это слово только с заглавной буквы, тем самым признавая главенство основного закона не только в системе права, но и в системе ценностно-смысловой, порождающей культуру, влияющей на духовную жизнь человека и общества С этой точки зрения Конституция представляет собой феномен, который порождает множественность смыслов очевидно, что Конституция, например, как метатекст апеллирует к традиционным устоям народа, связывает воедино символы повседневного бытия и социокультурной реальности Так, например, Ульрих Шмид в своей статье «Конституция как прием» рассматривает российскую Конституцию как источник нарратива, преломляющегося в сказочном, комедийном, трагическом или драматическом поведении персонажей истории — представителей различных социальных сословий рабочих, крестьян, трудящихся, интеллигенции, а также деятелей государства, чиновников Возвращаясь к самому началу, Конституции РФ 1993 года, У Шмид, в частности, замечает «Литературное прочтение текста действующей российской Конституции высвечивает прежде всего ее хрупкость. Уже в преамбуле сочетаются взаимопротиворечивые утверждения, а цельность текста обеспечивается благодаря пафосу…». Однако именно в преамбуле Конституция России обнаруживает важнейшие консолидирующие акценты в коллективной и индивидуальной жизнедеятельности людей — «общая судьба на своей земле», «гражданский мир и согласие», «общепризнанные принципы равноправия и самоопределения народов», почитание памяти предков и т. д.
Более традиционным, конечно, является рассмотрение Конституции с точки зрения ее юридического значения. Действительно, Конституция как нормативно-правовой акт имеет свою определенную структуру, отражает преломление различных правовых институтов и норм во всех общественных отношениях, а Конституция как исторический документ свидетельствует об определенных этапах ценностных исканий народа в довольно протяжённом отрезке времени, нередко на протяжении более двух столетий. Как видим, Конституция — явление многогранное и требующее к себе соответствующего отношения: интерпретацией конституционного целого занимаются и историки, и лингвисты, и социологи, и культурологи — помимо собственно правоведов, которым по долгу службы приходится иметь дело с Конституцией, но правда, именно как специальным актом государства, имеющим прежде всего юридическую силу и ценность. Не всегда, конечно, интересы исследователей совпадают в пространстве изучаемого объекта — правоведы прежде всего обращают внимание на нормативно-правовой аспект конституционного строительства и развития конституционализма, для представителей же других областей социогуманитарного знания важное значение приобретают именно ценностно-смысловые ориентации содержания Конституции государства. Но и среди юристов в последнее время все чаще объективируется интерес к онтологическим уровням бытования Конституции, это свидетельствует по меньшей мере о смене некоторых методологических приоритетов в исследовании конституционных значений. Как известно, для правоведения на протяжении десятилетий незыблемым оставался нормативный (или нормативистский) подход в изучении юридических феноменов, явлений и процессов, однако сегодня он явно не способен в достаточной степени раскрыть всю полноту и самоценность этого инструментария. Поэтому нередко появляются работы, в которых проблематика связи конституционных значений с мировоззренческими установками или социокультурными принципами человеческого коллективного и индивидуального бытия заявляет о себе со всей очевидностью Так, например, Е. В. Сазонникова в диссертационном исследовании «Наука конституционного права России и концепт „культура“: вопросы теории и практики», определяя в качестве цели работы создание научно обоснованной концепции формирования и развития в науке конституционного права России знания о культуре как целостности и о возможностях применения этого знания на практике для совершенствования конституционно-правового законодательства и образования, приходит, на наш взгляд, к важному заключению о том, что концепт «культура» должен рассматриваться как один из первичных элементов конституционно-правовой науки. Приоритетность культурных смыслов для юридической науки в целом и различных ее отраслей в частности касается не только специфики приобщения человека к правовой культуре, что наиболее часто встречается в рамках правовых исследований различной направленности, но и самой основы права — его нормативных систем и принципов.
Как известно, в юридической науке двадцатого столетия и нового века интерес к исследованиям Конституции или конституций нисколько не ослабевает Хотя на первый взгляд давно уже складывается впечатление о том, что трудно придать научному поиску в этом отношении вектор новизны, и кажется, все более отчетливо звучит мнение об исчерпанности этой проблематики, однако почти метафизический и сакральный смысл конституционного, неизмеримости его ценностных доминант, онтологичности и непреложности исключает ситуацию забвения данного исследовательского направления. В правовом дискурсе, который за последние десятилетия заметно обогатился правоприменительной практикой, связанной с нормами конституционного права, обнаружилось стремление связать развитие конституционализма с широким историко-правовым контекстом. Вместе с тем, Конституция давно перестала быть только символом правовой целесообразности, необходимости, свидетельством человеческой рациональности и системе мировоззренческих координат претендует едва ли не на библейскую роль. Можно сказать с уверенностью о том, что Конституция помимо того, что продолжает оставаться заданной программой гармонизации человеческих коллективных и индивидуальных взаимоотношений, обретает статус сакрального знания. Этот философский уровень значительно расширяет горизонт мнений о Конституции, о ее роли в жизни человека, общества, государства «При анализе такого явления, как духовность, — отмечают исследователи Г. В. Платонов и Е Ю Новикова, — необходимо… различать исторически устойчивые черты, составляющие национальный характер, и черты личности, которые формируются у индивида, у тех или иных слоев общества под влиянием конкретных условий исторического развития». Связь Конституции с народом определенно указывает на те самые исторически устойчивые черты, которые во все времена связывали этнос в единое целое, консолидируя разрозненное население в гражданское общество. Как полагает, к примеру, Е. С. Эбзеев, «в отечественной юриспруденции достигнуто согласие в том, что речь в данном случае (в условиях трактовки Конституции как „неотъемлемой части действующего права“ — Е.П.) идет об интеграции конституционных установлений в социальную практику, те конституционализации всех сфер государственной деятельности и всей системы общественных отношений». Ситуация выглядит амбивалентной: Конституция априори должна обладать такой устойчивостью, стабильностью, интегратором общества и государства, но, как известно, концептуально оформляя веяния эпохи, традиции и ценности людей, в большей степени подвержена реформам вслед за меняющимся миром, за меняющимся человеком. О трансформациях конституционных правовых норм свидетельствуют серьезные юридические исследования, а между тем в области изучения онтологических свойств конституции и ее установлений вектор научного поиска, на наш взгляд, только намечается. Примечательно, что правоведы все чаще обращают внимание на осмысление феномена и проявлений конституционализма не только в юридическом, но и в историческом, политическом, культурологическом и философском аспектах. Так, Е. В. Сазонникова, к примеру, высказывает мысль, согласно которой в культурологическом измерении конституционализм становится «источником новых явлений в культуре и предстает в качестве элемента культурного пространства, выполняющего специфическую функцию сохранения и обновления нормативно-ценностного опыта конституционно-правовых взаимоотношений государства, различных социальных групп, личности». К этому остается лишь добавить — принципы конституционализма в любом истолковании этого феномена — правовом или каком-либо ином — могут быть адекватно восприняты только через призму культуроцентричности отношений общества, государства, человека, и здесь имеется в виду не только культура правовая, определяющая эффективность таких отношений, но и в целом культура духовная, открытая человеку, обществу, государству, миру.
Нечасто можно встретить именно такое — когнитивное отношение к Основному закону в государстве. Оно, по-видимому, не имеет четкого выражения в правовой науке, но в философии и социологии права необходимость в оценках консолидирующего воздействия Конституции на мир, человека в мире многократно возрастает. Это связано с концептуальным пересмотром духовного наследия человечества, его преобладавшими в ушедшем двадцатом столетии постмодернистскими интерпретациями. По крайней мере, выход за рамки представлений о Конституции только как об основном законе, содержащим исключительные в своей юридической иерархии нормы права, сам по себе является фактом примечательным. Кстати, такая тональность иногда прослеживается и в работах известных и авторитетных государствоведов или «конституционалистов». Так, Б. С. Эбзеев, например, пишет: «Будучи результатом творчества людей, Конституция призвана в упорядоченной форме выразить закономерности организации и функционирования социума и места человека в нем. Речь идет о рационализации форм социального бытия и их стабильного существования как главного условия эволюционного (а не революционного) развития». Конечно, в любом случае доминирует уклон именно в рациональную сторону концептуализации норм Конституции, но это есть определяющая характеристика всякой системы права, поэтому соответствует реальному положению дел в полной мере. Но Конституция — это прием, связующий человека с социумом. Это супертекст, нуждающийся не только в юридическом прочтении, но и в риторическом, а иногда и в литературном. Правда, по словам Л. С. Мамута, «довольно многим членам общества мнится, будто сам текст (курсив наш — Е.П.) Конституции способен источать из себя поток материальных и социальных благ для каждого <…> У человека, который этими иллюзиями живет, спонтанно возникает недоверие к Конституции, появляется разочарование в ней. Усугубляет его „открытие“ то, что Конституция как таковая — вовсе не „скатерть-самобранка“, благодетельствующая без разбора всех и сразу». В такой резко эмоциональной оценке усматривается своеобразный призыв автора к защите Конституции от нападок со стороны тех, кому она чего-то в свое время недодала, чем-то, быть может, обделила, кто не осознал истинного предназначения этого текста. На самом деле текст Конституции таит множество интересных с точки зрения жанровой природы человеческого творчества таинств, ведь в действительности любая конституция и есть акт народного творчества. Но все же она в полной мере не исчерпывает и, по-видимому, не может исчерпать дополнительных коннотаций, придающих каждый раз новый ракурс в оценках конституционного целого. В то же время по-прежнему в современной юридической науке нередко в качестве генеральной идеи выдвигается положение о том, что «российское конституционное законодательство представляет собой сложившееся явление (курсив наш — Е.П.), обладающее особой правовой природой и соответственно определенной совокупностью черт…». Предлагаемая в этом случае аргументация лежит в плоскости регулятивного воздействия права, но при этом онтологические характеристики правовой системы практически в расчет не берутся. С учетом этого обстоятельства полагаем, что конституционное законодательство все же не однозначно может быть отнесено к «сложившимся явлениям», всякий раз получая все новые и новые интерпретации, заслуживающие внимания правовой науки.
Ценностно-смысловые характеристики позволяют выявить некоторые общие закономерности формирования и развития конституционного целого в Основных Законах различных стран мира. Но очевидно, что некое главное направление в таких схождениях содержится во Всеобщей декларации прав человека, принятой в декабре 1948 года. В частности, этот международный документ постулирует такие ценности для любого общества, которые могут называться общечеловеческими и сомнения в пользе которых отметаются любым обществом, — речь идет о свободе, справедливости и всеобщем мире. Примечательно, что в отечественной культуре на первый план выходят ценности аскезы и отречения от мира, прежде всего, согласуемые с православной культурной традицией. И если при этом Всеобщая декларация утверждает всеобщий мир в качестве духовно-консолидирующей силы государств и народов, любая культурная традиция способна пересмотреть этот постулат с учетом присущих только ей особенностей, — в данном случае, разумеется, отречение от мира связывается с внутренней потребностью человека, поиском его alter ego, а не с целью противостояния всему миру.
Конституции мира нередко и даже можно сказать, что довольно часто используют конструкцию всеобщности, характеризуя самые различные стороны государственной жизни или социального бытия. Действительно, все общий — значит, единый для всех, касающийся любого, интегрирующий и объединяющий. Всеобщий характер ценностных установок очевиден — любое общество на протяжении всей истории своего развития формировало определённую систему таких ценностей и норм, которые бы согласовывались с традициями, обычаями, другими ценностно-нормативными феноменами и удовлетворяли интересам народа. Так, например, в преамбуле Конституции Соединенных Штатов Америки в качестве основного тезис, а конституционализма и развития государственности приводится мысль о всеобщем благоденствии. В этой связи российская Конституция 1993 года очень точно, на наш взгляд, но с другой стороны, как-то с акцентом на некую безысходность и безликость приводит в преамбуле постулат о соединенности многонационального народа России общей судьбой на своей земле, а одной из основных задач развития государственности называет обеспечение благополучия и процветания России. Здесь уместно добавить, что благополучие и процветание Отечества связывается в том числе и с закреплением за Российской Федерацией конституционной характеристики социального государства: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (статья 7 Конституции России). Из большого числа конституционно-правовых категорий, пожалуй, именно две эти — достойная жизнь и свободное развитие человека — вызывают наибольшие дискуссии: человеческий и социальный смысл в них усматривается с очевидностью, а вот нормативно-правовое значение, по крайней мере, за скобками Конституции угадывается с трудом. Вместе с тем социальное самочувствие россиян выглядит, по исследованиям социологов, весьма посредственным, а восприятие будущего россиянами — далеким от предвидения достойной жизни и свободного развития человека. Некоторые исследователи, к слову сказать, приходят к выводу о том, что «индивидуалистический» подход в решении важных государственных и социальных задач связан с некоторым креном российского мировосприятия в сторону довлеющих над человеком, правом и культурой денежных отношений начала 90-х годов — времени формирования конституционализма в России. Об этом, в частности, размышляет И. К. Пантин: «Ирония истории: утверждение индивидуальности, человеческого достоинства, равно как и чувства ответственности, внутреннее раскрепощение личности стало миссией не социализма, а буржуазного развития России после 1991 г.». Нужно, однако, добавить, что категории достоинства и свободного развития личности нашли свое место в статье 22 Всеобщей декларации прав человека и по аналогии были восприняты многими Конституциями.
В Конституциях российского государства, прошедших от начала до конца двадцатого столетия, идея всеобщности находила свое воплощение по-разному, но в целом ее реализация выглядела довольно воинственно, с коннотациями агрессивности, с лексикой пафосной.
Так, например, Конституция РСФСР 1918 года в главе второй приводит в качестве основной задачи органов власти «уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, становление социалистической организации общества и победы социализма во всех странах…». Примечательно, что идея всеобщности связывается в указанной Конституции с финансовой политикой, которая «в настоящий переходный момент диктатуры трудящихся способствует основной цели экспроприации буржуазии и подготовления условий для всеобщего равенства граждан республики в области производства и распределения богатств». В Конституции 1937 года этот воинственный запал почти сходит на нет, но все же во второй статье его отголоски еще присутствуют «Политическую основу РСФСР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, и завоевания диктатуры пролетариата». Завоевательная риторика в значительной степени характерна для первых российских конституций, и она является продолжением тех политических противоречий, которыми была отмечена вся первая половина XX века. При этом выброшенный за борт истории человек никак не мог заявить о себе в полную силу по понятной причине — его права и свободы находились под залогом у государства Конституция РСФСР 1937 года отвела основным правам и обязанностям граждан одну из своих последних глав — одиннадцатую. Такое местоположение норм о правовом статусе личности говорило открыто о том, что все человеческое государству чуждо, а одним из главенствующих прав человека становилось право на труд — в статье 122 видим: «Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы». Несколько изменилась ситуация с принятие в 1978 году следующей Конституции РСФСР, в которой, как известно, второй раздел носил название «Государство и личность» по понятной причине с акцентом на интересах государства, прежде всего. В то же время, к примеру, Конституция Королевства Испании, принятая в 1978 году, посвятила первый раздел основным правам и обязанностям и запротоколировала, что «достоинство личности, неотчуждаемость ее неотъемлемых прав, ее свободное развитие, уважение к закону и правам других являются основой политического порядка и социального мира». Глава вторая в испанском Основном Законе поделена на две секции — Секция 1 «Об основных правах и гражданских свободах» и Секция 2 «О правах и обязанностях граждан». Немного скованно представлены права и свободы человека и гражданина в Конституции Японии, вступившей в законную силу в 1947 году. Общеизвестно, что высокая степень традиционализма в восточных государствах делает нормы в их Основных Законах слепками с социокультурной реальности. Не случайно Конституция Японии представляет права и свободы своих граждан в качестве нерушимых вечных прав, передаваемых от нынешнего поколения к будущему. А статья 15, например, устанавливает, что «все должностные лица органов публичной власти являются слугами всего общества…». Сервильный подход, просматривающийся даже в установлениях правового статуса личности, в данном случае вызван как раз спецификой культурных отношений — служение народу обретает очень важную социокультурную черту в японской среде. При этом статья 12 устанавливает, что «Свободы и права, гарантируемые народу настоящей Конституцией, должны поддерживаться постоянными усилиями народа».
Конституции занимает важнейшее место в системе ценностей цивилизаций не только потому, что они есть руководство к развитию государственности, налаживанию отношений между различными субъектами правоотношений, но и по той причине, что они способствуют универсализации ряда важнейших духовно-консолидирующих явлений для многих народов и континентов. Как отмечает И. И. Кравченко, «ценности объективны не потому, что они независимы от человека, разума, истории, действительности, а потому именно, что они порождаются этими универсальными началами, которые обладают собственной объективностью: человек объективен по отношению к другим людям, сообщество людей объективно по отношению к индивиду, история объективна по отношению к действительности и человеку, живущему в ней…». Объективность ценностей, как видим, определяет их универсальный характер, значимость для культур и цивилизаций. Так, Основной закон Федеративной Республики Германии (1949) определяет ценность ответственности государства перед будущими поколениями (ст. 20-включена в Основной Закон в 1994 г.), подобная формулировка свойственна и Федеральной Конституции Швейцарской Конфедерации (1999), появляющаяся уже в преамбуле — «сознавая общие достижения и свою ответственность перед будущими поколениями», и характерна также для российской Конституции 1993 г., ее преамбулы — «…исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями…». Межпоколенческое взаимодействие, таким образом, становится непреложной ценностью для различных народов и культур, оно рассматривается и как определенный вектор дальнейшего развития государства, и как важнейший процесс, обеспечивающий неотвратимость ответственности субъектов права, но главное — оно задает определенную тональность конституционного строительства.
Итак, Конституции различных стран мира — это не только свидетельства соответствующего международным стандартам формирования и развития государственности, но это еще и важнейший фактор цивилизациогенеза, цивилизованный мир признает Конституции и их установления скорее как суперценность, а не только как собрание имеющих высшую юридическую силу норм и правил. В этом смысле Конституция представляет собой мощнейшую духовно-консолидирующую силу, выступающую на стороне народа и всеобщего мира, и согласия.
СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Аничкин Е. С. «Преобразование» Конституции Российской Федерации и развитие конституционного законодательства в конце 20 -начале 21 вв.: Автореф. дисс. на соиск. уч. степени д-ра юр. наук. С.9//Сайт ВАК Минобрнауки РФ. Объявления о защите докторских диссертаций. Юридические науки.
Громов М. Н. Вечные ценности русской культуры: к интерпретации отечественной философии//Вопросы философии. 1994. № 1.
Конституционное право России: Хрестоматия/Сост. А. П. Угроватов. Новосибирск, 2000.
Кравченко И. И. Политические и другие социальные ценности//Вопросы философии. 2005. № 2.
Мамут Л. С. Конституционные основы современной российской государственности//Общественные науки и современность. 2008. № 4.
Михайлова Л. И. Социальное самочувствие и восприятие будущего россиянами//Социологические исследования. 2010. № 3.
Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. М., 2004.
Пантин И. К. Ленинбольшевизмрусская революция//Вопросы философии. 2005. № 4.
Платонов Г. В., Новикова Е. Ю. Духовность русского народа и наши реформы//Социально-гуманитарные знания. 2008. № 6.
Сазонникова Е. В. Конституционное право и концепт «культура»: монография. Воронеж, 2011.
Сазонникова Е. В. Наука конституционного права России и концепт «культура»: вопросы теории и практики: Автореф. дисс… д-ра юрид. наук//Сайт ВАК Минобрнауки РФ: http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=15 260&from54=3
Шмид У. Конституция как прием (риторические и жанровые особенности основных законов СССР и России)//Новое литературное обозрение. 2009. № 6.
Эбзеев Б. С. Конституция Российской Федерации: прямое действие и условия реализации//Государство и право. 2008. № 7.