Концепция трагического в эстетике режиссера А. Мамбетова
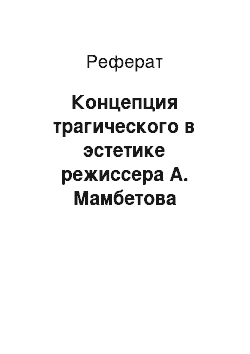
В этом смысле необходимо сказать, что во взглядах Аристотеля в познание природы трагического отмечено, что трагедия есть подражание действию «страшному и жалкому». Аристотелем было разработано положение о трагической ошибке героя (hamartia), которое явилось истоком идеи трагической вины, развиваемой последующей эстетикой. Согласно Аристотелю, герой трагедии не является воплощением ни особых… Читать ещё >
Концепция трагического в эстетике режиссера А. Мамбетова (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Жанр трагедии, драмы определяет творческую ментальность режиссера Азербайжана Мамбетова, поэтому неслучайно художественный смысл проблемы трагического в эстетике режиссера занимает особое место. Трагическое в искусстве, неотделимо от идеи достоинства и величия личности, проявляющихся в самом ее страдании, в этом смысле сопоставимо с понятием возвышенное. Как форма возвышенно-патетического страдания действующего героя, в сценических произведениях Мамбетова, трагическое выходит за пределы антиномии оптимизма и пессимизма. Объясняется это тем, что трагедии объективно не свойственен «поверхностный» оптимизм, вследствие неразрешимости конфликта и невосполнимой утратой того, что не должно было бы исчезать. А пессимизм его героев это лишь внешнее проявление, поскольку за ним кроется глубинный оптимизм, проявляющийся в том, что он не примеряется даже в поражении, бросая вызов судьбе. В итоге перед взором зрителя предстает героическая активная личность, как Еламан в спектакле Мамбетова «Кровьи пот «. С другой стороны, в режиссуре Мамбетова имеет место изображение трагического как в античности через понятия рока и судьбы.
В этом смысле необходимо сказать, что во взглядах Аристотеля в познание природы трагического отмечено, что трагедия есть подражание действию «страшному и жалкому». Аристотелем было разработано положение о трагической ошибке героя (hamartia), которое явилось истоком идеи трагической вины, развиваемой последующей эстетикой. Согласно Аристотелю, герой трагедии не является воплощением ни особых достоинств, ни особых пороков и не отличается ни особой добродетелью, ни особой порочностью, а впадает в несчастье по какой-нибудь ошибке, как например, в трагедии Софокла «царь Эдип» по велению рока, судьбы. Неслучайно античную трагедию называют «трагедией рока». Правда, существовали различные мнения в объяснении понятия Аристотеля «трагическая ошибка». К примеру, если у греческих ораторов IV века до нашей эры «hamartia» означала непреднамеренная, невольная ошибка, то другие по традиции, идущей от Гомера, внесли в это понятие новый смысл, обозначив ее как «проступок», а позже как «сознательное преступление».
Применительно к деяниям Эдипа в спектакле Мамбетова «Царь Эдип», подходит понятие трагическая ошибка. Здесь трагическое предопределено тем, что душа героя раздвоена. В этом смысле в судьбе Эдипа прослеживается ницшеанское определение дионисийского и апполонического начала. В дионисийском начале героя его душа, находясь во власти рока и судьбы, совершает суровое возмездие, не ведая о том, что это его родной отец, убивает царя Лая, женится на его вдове Иокасте, то есть на родной матери. При этом, все эти поступки Эдипа в интерпретации режиссера заключают в себе более глубокие корни, чем содеянное им. Метафизический смысл заложен в том, что глубины внутреннего мира героя, его душа, является продуктом архаического сознания, в котором зарождающееся право на устрашение было одним из средств укрепления правопорядка в данном сообществе при наличии слабых нравственных императивов. В показе этих особенностей режиссер подчеркнуто выявляет в личности Эдипа иррациональное, дионисийское начало, с безмерным буйством, нарушением покоя, беспокойством, неудовлетворенностью, порожденное демоническими силами, в чем проявляется сходство с Ницше. Как отмечает Делез, Ницше первым исследовал мир безличных, до-индивидуальных сингуляр-ностей как мир свободной и несвязанной энергии. Он построил «дионисийскую, смысло-порождающую машину», где смысл и бессмыслица уже не противостоят друг другу, а соприсутствуют вместе внутри нового дискурса. Ницше открыл новые пути исследования глубины, пролил на нее новый свет, услышал в ней тысячи голосов и заставил все их говорить. Так и Мамбетов, антиномию личности своего героя представил в новом свете, соединив воедино дионисийское и аполлоническое начало. Личность Эдипа с одной стороны представлен режиссером «как тип благородного человека», то есть по своим человеческим качествам он мудрый, благородный, но с другой стороны, «несмотря на свою мудрость, предназначен к заблуждениям и к бедствиям» по воле рока. Отвечая злом на зло, он превысил все масштабы преступления, став отцеубийцей, кровосмесителем по воле богов. Объяснение этому можно найти в рассуждениях Ницше, где он на основе персидского народного верования, что «мудрый маг может родиться только от кровосмешения», причину «столь необычайной противоестественности» поступка мудрого Эдипа видит в кровосмешении, поскольку тайну природы можно достичь только победоносно противостояв ей. И это мог совершить мудрый Эдип, разгадав загадку двуобразного сфинкса, он же, по мнению философа, «должен был нарушить и ее священнейшие законоположения, как убийца своего отца и супруг своей матери». Ницшеанское объяснение деяний Эдипа находит себе подтверждение в режиссерской трактовке Мамбетова, где трагическим является сам субъект в лице царя Эдипа, глубины его внутреннего мира и обусловленные ими действия. Поэтому «жестокость Эдипа не только необходимая, но и нравственно ценная». И здесь режиссер с акцентуацией самых зловещих, крайних действий своего героя, заложенных в самой трагедии Софокла, заставляет своего героя перейти по ту сторону добра и зла. Это своеобразный художественный прецедент, по модели которого происходит рождение нового сознания. Воля богов исполненная, в самой предельной форме жестокости порождает отказ от существующих норм и правил, значит и отказ от воли богов. Этот бунт против богов как бы означает и смерть бога, и оттолкнувшись от них, он устремляется в противоположном направлении, ввысь, к истинным ценностям и идеалам. Отсюда в понимании режиссера трагическое не может быть там, где человек выступает лишь как пассивный объект претерпеваемой им судьбы, он в самом страдании высвечивает достоинства и величия личности своего героя. Величие его в том, что в финале спектакля личность Эдипа предстает с новым содержанием. Как отмечает Ницше «пусть от его действий гибнут всякий закон, всякий естественный порядок и даже нравственный мир — этими действиями очерчивается более высокий магический круг влияний, создающих на развалинах сокрушенного мира мир новый». И не случайно в финале он своего героя представляет с измененным новым сознанием, где в душе (дианойе) и в уме (метанойе) произошли изменения. И поэтому своего героя, хотя и в глубоком страдании не отправляет просто за кулисы, а поднимает по ступенькам белой лестницы медленно в сопровождении его детей, с другим внутренним ценностным ориентиром. Символичность такого ухода в том, что он эти новые ценности по эстафете передает не только своим детям, но и всему человеческому роду. В результате чего наступает «очищение» — «катарсис и остается вера в глубокий смысл поступательного движения культуры.
Из необходимости объяснить и оправдать трагизм бытия после смерти старого Бога, вытекает ницшеанская теория сверхчеловека, который встречает боль как неотъемлемую часть своего внутреннего роста, и достигает духовного совершенства через, страдание. Одной из главных своих задач как режиссера Мамбетов считал воссоздание подобного трагического героя, активного, благородного и страдающего. Герой Мамбетова всегда трагическая личность, трагедия которая заключается в поисках истины, своего места в жизни, в стремлении осуществить свою мечту и доказать собственную силу и значимость. Причем в роли судьбы в творчестве Мамбетова часто выступает не только неумолимый рок в античном понимании, но и обстоятельства жизни, часто спровоцированные самим человеком. Таким образом, его сильная, борющаяся личность оказывается не только жертвой, но и творцом трагических противоречий собственной жизни. Так, например сущность трагедии Войницкого в спектакле «Дядя Ваня» режиссер видит не только в жизни, принесенной в жертву, о котором герой с горечью сожалеет, но и в бесцельности его настоящей жизни, бесперспективности будущего. «Прошлого нет, оно глупо израсходовано на пустяки, — а настоящее ужасно по своей нелепости» говорит Войницкий-Молдабеков Елене Андреевне. Отсутствие целей, бесперспективность и, как следствие этого, недовольство собой, больная совесть — это не индивидуальные черты Войницкого, а целого поколения интеллигентов. Они свое зеркальное отражение находят и в нашей действительности. В этом все больше убеждаешься, когда на сцене разворачивается полная картина смены чувств, мыслей, намерений героя в повседневном течении жизни, бытовых отношениях. То есть режиссер фактом живой жизни, показывает жизнь через жизнь людей, при этом символически прославляя жизнь. Вот почему он в Астрове увидел человека по природе своей жизнерадостного, лишь силой окружающих обстоятельств, приходящего к печальным для себя выводам. «Наше положение, твое и мое безнадежно» говорит он Войницкому, без всякого обмана и утешительных иллюзий. Но за этой оболочкой скептицизма все, же проявлялась сокровенная любовь к жизни и вера в творчество во имя светлого, прекрасного будущего. Эта жизнеутверждающая мысль делает образ Астрова возвышенной, поэтичной. Такая трактовка режиссером роли созвучна свойственной философии Ницше как идеи неприятия «лицемерной мещанской морали, „бездуховности“ собственнического мира», так и восхищения чувством бытия, не индивидуального, а как части «жизненной силы». Поэтому «наивность» Астрова, как гомеровская «наивность» в представлении Ницше «может быть понята лишь как совершенная победа апполонической иллюзии: это — та иллюзия, которой так часто пользуется природа для достижения своих целей». В спектакле Мамбетова она находит столь удивительное свое выражение через монолог о лесах Астрова, где режиссер вслед за Ницше убеждает нас что «бальзам иллюзий», призван спасти взоры людей «от открывающихся ужасов ночи», врачевать душу, охваченную «судорогами волевых побуждений».
Ницше отмечал, что человек, как правило, не может вынести трагедию реальной действительности, и тогда в его воображении создается иллюзорный мир, а герой ощущает себя частицей этого мира. Такой мотив иллюзии как важнейшей составной части сознания личности показан ярко в спектакле Мамбетова «Дядя Ваня» через образ Войницкого, где в мире грез, в котором он пребывает, собственный образ неизбежно оказывается идеализированным, наделенным, теми достоинствами, которые он, на самом деле имел. С трагическим пафосом об этом говорит он сам: «Возможно, я был бы Шопенгауэром». Почему Шопенгауэром? Наверно потому, что «диалектика характера» дяди Вани, которая связана с изображением самого психологического процесса, смены чувств, мыслей, настроений где-то совпадает с идеей иллюзорности жизни и человеческого существования как «непрерывного обмана и в малом, и в великом» Шопенгауэра. В своих философских взглядах он подчеркивал иллюзорность счастья и необратимость страдания, коренящегося в самой воле личности к жизни с ее бессмысленной жестокостью и вечной неудовлетворенностью. Шопенгауэр считал иллюзорными представления человека о пространстве и времени, движении и развитии, полагая, что природа, общество, культура, история и даже собственно человеческая жизнь не обладают подлинным объективным существованием, а существуют лишь в нашем представлении, являются видимостью, игрой воображения и противостоят, соответственно, истинному миру невидимой скрытой сущности, воли, понятой как кантовская «вещь в себе». В главном сочинении «Мир как воля и представление» Шопенгауэр отмечал, что «человеку суждено познать в земном счастии нечто обманчивое, простую иллюзию».
Войницкий-Молдабеков это очень тонко, точно и очень жизненно выразил в словах: «Когда нет настоящей жизни, то живут миражами. Все-таки лучше, чем ничего».
Вообще сам процесс создания иллюзии зачастую, как и у Ницше, у режиссера подобен творчеству, а сама фантазия на глазах зрителя становится подлинным — художественным шедевром. Поэтому режиссер в этой постановке представил непревзойденный образец изображения трагической метаморфозы личности, разочаровавшейся в жизни и в своих идеалах. Его герой платит слишком большую цену за то, что посмел противостоять иллюзиям. Выстрелом в безоружного профессора, он ведь не разрешил свою драму жизни. «Выстрел ведь не драма, а случай» по утверждению самого Чехова. Настоящая драма, происходит после выстрела. «Что буду делать?» «Как я проживу???» «Начать новую жизнь… Подскажи мне, как начать… с чего начать…». Все эти вопросы говорят о безнадежной надежде ВойницкогоМолдабекова, терзаемый внутренними сомнениями и противоречиями, имеющие имманентный характер. То есть в эстетическом плане, создавая драму души и переживаний, Мамбетов эквивалентом дионисийского страдания делает внутреннюю двойственность героя, терзающего самого себя, что имеет важное философское, эстетическое и психологическое значение. трагический режиссер сценический спектакль Так передать режиссерскую идею внутреннего разлада личности как части дионисийского страдания и в то же время физического и духовного саморазрушения личности мог только великий актер Ануар Молдабеков. Это словами Ницше можно назвать «самоотражением дионисического человека, — каковой феномен лучше всего прослеживается в актере, который, при действительном даровании, видит образ исполняемой им роли с полной ясностью, как нечто осязаемое, перед своими глазами». В его исполнении Войницкий «был отнюдь не милым, добрым» дядей Ваней, он неожиданно открывал в себе и мужество и бесстрашие. На наших глазах он становился человеком, способным не только прислушиваться к собственной боли, но и оценить себя со стороны с беспристрастностью постороннего". И в момент, когда он произносил монолог о пропавшей жизни и сам себе выносил приговор, то его состояние ассоциировалось с этими словами Ницше — Заратустры: «самым опасным врагом, которого ты: можешь встретить; будешь всегда ты сам; ты сам подстерегаешь себя в пещерах и лесах». В искусстве театра такое возможно, когда режиссер мечтает об этом, живет этим, вдохновляется и вдохновляет этим актера. Тогда актер по настоящему творит и становится достойным того, чтобы претворить такого рода героики в сценический образ. Тогда становится ясно, почему в своем спектакле режиссер смог донести до зрителя идею внутреннего разлада личности как части дионисийского страдания и в то же время физического и духовного саморазрушения. В эволюции личности своего героя, идущего от отрицания к познанию, он уловил главную суть авторского замысла, что трагическая двойственность человека обусловлена вечным стремлением проникнуть в тайну бытия и метафизической невозможностью ее постичь.
- 1. Ницше Ф. Так говорил Заратустра; К генеалогии морали; Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм: Сборник. Минск.1997. С. 507.
- 2. Франк С. Л. Сочинения. М. 1990. С. 30.
- 3. Ницше Ф. Так говорил Заратустра; К генеалогии морали; Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм: Сборник. Минск. 1997. С. 506.
- 4. Шостак И. Режиссер Мамбетов. Алматы, С. 114.